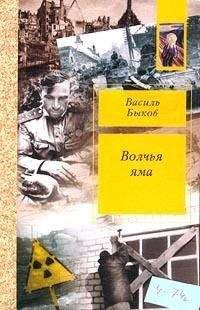— Это должно быть написано на стенах, — начал было режиссер, но решил, что необходимы некоторые пояснения. — Мы снимаем картину. То есть должны снимать. Уже все сроки нарушены. По вине администрации. Они привезли поломанный суперкран. Да вы это знаете, слышали. И вам это неинтересно. Картина будет о войне, о подполье. В город проникает наш человек, чтобы взорвать театр, где собрались эсэсовцы, гестапо и разные фашисты. Картина об этом человеке. Ну как бы вам попроще?.. Это, если хотите, вестерн. И этот человек — молчаливый, одинокий ковбой. Таким я его вижу. Он идет по улицам. А вокруг чума. То есть определенная атмосфера оккупации. Федор — он наш художник — считает, что эти вывески на голых стенах подчеркнут...
— Их никто и не заметит, — бросил крепыш, катавший бутылку.
— Да! Если ты так снимешь, — сразу утратил флегму художник.
— Я сниму... Что мне стоит... А вот что получится, это уже экран покажет.
— Не заводитесь! — пресек режиссер возникшие дебаты. — Экран покажет то, что мы сделаем, Генрих!
— А я что говорю? — пожал крепкими плечами оператор с не подходящим к его мужиковатой внешности именем.
Режиссер выдернул из пачки один лист и показал его Лаврентьеву:
— Вот это важный текст: «Нищенствовать запрещено». Он будет написан на стене собора. А под ним — нищие, калеки, инвалиды... Надпись нависла над ними как проклятье или как насмешка, если хотите... Понимаете мою мысль? Это правильно написано? Я сам по-немецки, кроме «шпрехен зи дойч, Иван Андрейч», ни бельмеса. Но автор утверждает, что тут все правильно.
— Да, правильно, «Betteln verboten». Но обычно такие надписи делались латинским, а не готическим шрифтом, — сказал Лаврентьев.
— Нет-нет, — запротестовал Федор. — Латинский не годится. Тут важно настроение, а не внешнее правдоподобие.
— Ваше преподобие, не бойтесь правдоподобия. И не марайте строение под собственное настроение, — скаламбурил Генрих и сам расхохотался.
Режиссер вскипел:
— Прекратите сейчас же! Вам дело говорят. Названия улиц напишем латинским, а вот на соборе я бы все-таки оставил готический. Черные, похожие на насекомых буквы на желтом фоне. По-моему, неплохо. Создает атмосферу.
Лаврентьев не возразил, но режиссер почувствовал его несогласие.
— Да вы только представьте! С высокой точки — огромная площадь, булыжник и маленькая фигура человека... Он идет долго... Мы не знаем, куда и зачем... И вдруг собор, и нищие, и эти буквы крупно, а?
— Но снимать нужно с суперкрана, — заметил Генрих каким-то неопределенным тоном, то ли уточняя мысль режиссера, то ли иронизируя над ней.
— Зачем ты это сказал? — вспыхнул режиссер. — Зачем ты меня заводишь? Ты слышал разговор с Базилевичем? Слышал? Сидел и помалкивал, бутылочку катал. Тебе это до лампочки, да?
— А почему не посылаешь телеграмму?
— Пошлю-пошлю. Будь уверен. Текст продумать нужно.
— Пока мы будем продумывать, они свою пошлют.
— Ну и пусть. Сейчас придет Светлана, и пошлем. Имею я, в конце концов, право выкурить сигарету?
— Где она там копается?
— В буфете в очереди стоит. А ты бы вместо цирковых подначек пошел бы да помог.
— Дотащит. Не так уж много на пятерку накупишь.
И он был прав. Светлана показалась на пороге с немногочисленными свертками и бутылкой портвейна «Гзыл-шербет».
— Нужно было взять «семьдесят второй», — пробурчал Генрих.
— Этот на восемнадцать копеек дешевле, — отпарировала она.
— Финансовый гений! Тебе бы во Внешторгбанке работать.
— Да уж там таких свинтусов, как ты, наверняка поменьше.
— Не уверен, не уверен, — не сдался Генрих.
— Господи! Будет этому конец? — воззвал режиссер. — Что вы купили, Светлана?
— Вы же знаете их репертуар. Эстонская колбаса жирная...
— Б-р-р... — скорчил гримасу Федор.
— Жареная печень...
— Интересно, на чем они ее жарят? У меня после этой печени чудовищная изжога, — вздохнул художник.
— Значит, от печенки отказываешься? — спросил Генрих.
— Не надейся. Только соды проглотить нужно. Светлана, не откажите. Я видел у вас пакетик...
Пока Светлана искала в сумке соду, Генрих слез со стола и смел рукой на пол засохшие крошки. Федор, прищурив один глаз, разлил вино в стаканы.
— Прошу с нами, — предложил режиссер Лаврентьеву.
— Спасибо, я не голоден.
— Обижаете, обижаете, — сказал Генрих безо всякой, впрочем, обиды.
— А вы, Светлана, позволите себе стаканчик? — спросил Федор.
— Я выпью. В этой жаре и нервотрепке я совсем развинтилась.
Они выпили.
— Вот теперь немного легче, — сказал Генрих, жуя печенку.
— И ты прекратишь бурчать? — поинтересовался Федор.
— Не обещаю, не обещаю.
— Пока не починят суперкран... — начал режиссер.
— Сейчас я набросаю текст телеграммы, — предложила Светлана.
— Действуйте, — поддержал Федор, снова усевшись на диван и вытягивая ноги. — Дай сигарету, Сергей!
Режиссер надорвал пачку.
— А откуда он, между прочим, идет? — спросил художник.
— Кто?
— Да наш одинокий ковбой? Как он попал в город?
— Какое это имеет значение? Это за кадром. Забросили, как полагается.
— С парашютом?
— Возможно. Спроси у автора.
— В этом что-то есть, — произнес Федор задумчиво. — Ночь, самолет...
— Так все шпионские киношки начинаются, — сообщил Генрих.
— Разве? — удивился Федор.
— Снова на арене? — спросил режиссер, щелкая американской зажигалкой, но спросил миролюбиво. — Больше вы меня не заведете. Мне наплевать на парашют, и зрителю наплевать. Мы не знаем, откуда он идет. Нам важно, что он пришел, чтобы сделать свое дело. Пришел в незнакомый город...
Это было не совсем точно.
Андрей Шумов хорошо знал город, и ему не пришлось прыгать с парашютом. Он приземлился на партизанском аэродроме, а оттуда добирался вначале на быках, в крестьянской арбе, а последний участок пути проделал в товарном вагоне, где пахло конским потом, пол был покрыт затоптанным сеном, а на пустом ящике из-под снарядов сидел немолодой обер-фельдфебель в очках и излагал свои мысли по поводу различных исторических событий.
Поезд медленно полз вдоль моря, обильно нашпигованного минами и потому пустынного, несмотря на погожий осенний день. С другой стороны полотна желтели высохшие кукурузные стебли, роняли пожухлую зелень редкие в степи деревья, чернели обгоревшие домики на полустанках, и вдруг появилось и ушло щедро заросшее, бесстыдно цветущее кладбище со свежеобструганными некрашеными крестами.
Фельдфебель говорил длинно, тщательно выговаривая слова, чтобы Шумов мог понять все, о чем ему говорилось:
— Существует большой смысл в том, что украинский крестьянин называет немецким словом «крейда» мел, которым он пишет первые буквы на классной доске. В этом есть символ полученной из Германии цивилизации. Россия была дикой до Петра, но этот великий человек протянул руку Европе, то есть в первую очередь Германии. Мы дали вам ученых и администраторов. Эта земля, по которой мы едем, присоединена к Россия Екатериной, немецкой принцессой. Вам было всегда хорошо, когда вы дружили с Германией, и плохо, когда вы близоруко расторгали эти узы. Мы вместе победили Наполеона, но когда вы объявили нам войну в четырнадцатом году, то получили не победу, а большевистскую революцию. — Он снял очки и протер их чистым носовым платком. — Но теперь все станет на место, — заверил фельдфебель Шумова. — Посмотрите на этих молодых людей — немецких юношей и славянских девушек, разве это не символ будущего?
Немецкие юноши — трое солдат из команды фельдфебеля в ловко подогнанных кителях, со щеголевато засунутыми под погоны пилотками — тем временем пытались привлечь внимание двух женщин, возвращавшихся из села с выменянными продуктами. Опасаясь за свои мешки, женщины время от времени откликались, и тогда солдаты звонко и весело подолгу хохотали. Заметно было, что молодые парни переполнены той особой жизнерадостностью, которую испытывает в тылу фронтовик, и они охотно отдавались этой дурашливой радости.
— Музик! Музик! — закричал один из них и вытащил из кармана губную гармошку. — Кто есть Катьюша? — спросил он у женщин и, не дожидаясь ответа, поднес гармошку к губам.
Новый взрыв хохота смешался со знакомой мелодией. Однако фельдфебель сделал строгое лицо и выразительно посмотрел на игравшего.
— Это лишнее, — сказал он и пояснил Шумову: — Мы, немцы, имеем лучшую в мире музыку и не нуждаемся в чужих мелодиях... Благодарю вас за беседу. Приятно провести время в обществе культурного человека. Чем вы занимались в мирное время?
— Я специалист по коммунальному хозяйству.
— О! Это очень нужная специальность в вашей стране, которая делает лишь первые шаги к цивилизации. Коммунальное хозяйство — это символ...
Ему, видимо, нравилось многозначительное, с мистическим оттенком слово «символ».

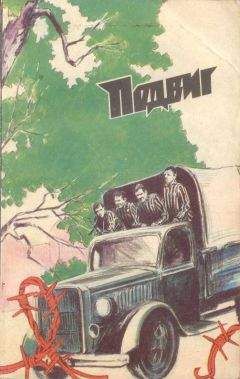

![Василь Быков - «Подвиг», 1989 № 05 [Антология]](https://cdn.my-library.info/books/143757/143757.jpg)