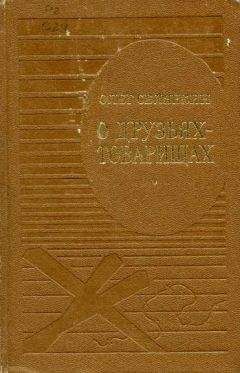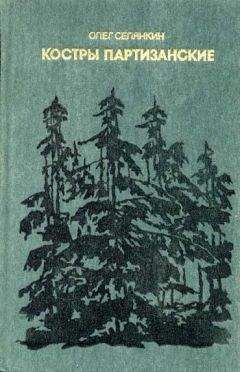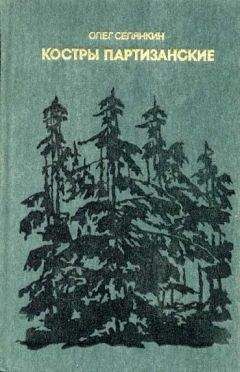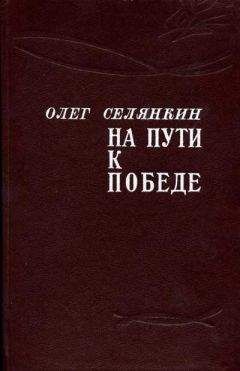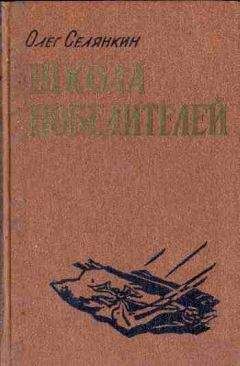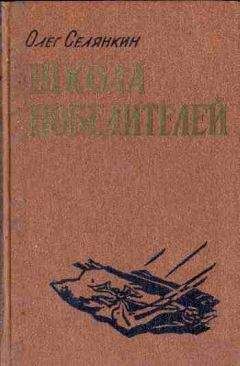— А я, окажись на вашем месте, просил бы не одну машину, а столько-то. Чтобы уложиться в один рейс.
Пришлось сознаться, что первоначальная задумка такой и была, но я, мол, понимаю, что фронту машины очень нужны, вот поэтому и прошу только одну.
Ватутин нахмурился, но сказал голосом, в котором по-прежнему звучала только доброжелательность:
— Как я догадываюсь, вам они и вовсе крайне нужны. Иначе вы не осмелились бы прийти ко мне. Или мы не одну общую задачу решаем?
А еще через час или около того я уже ехал во главе колонны из нескольких грузовиков.
Вот такого доброжелательного и делового контакта и не было между нами и армейцами во время боев на Березине и Припяти.
Нет, вину за отсутствие настоящих деловых контактов я взваливал не только на армейских начальников. Часть ее, безусловно, лежала и на моем командовании. Да и я был грешен в том, что не проявил ни нужной инициативы, ни настойчивости.
Тогда же, во время этого вынужденного безделья, я и понял окончательно, что флот без сухопутных сил очень мало значит, что в Боевом уставе совершенно правильно сухопутным силам отводится главенствующая роль. Для меня лично этот вывод был важен еще и потому, что (чего греха таить?) в начале войны мы, моряки, несколько пренебрежительно поглядывали на армейцев: дескать, не они, а мы соль военного племени! И когда до нас доходили слухи, мол, такой-то командующий флотом плохо ладит с армейским начальством, мы неизменно и безоговорочно принимали сторону адмирала.
Пришел я к этому выводу после того, как подумал: а почему же наша Днепровская военная флотилия, которая по своей боевой мощи значительно уступает довоенной, хотя и имеет потери в корабельном и личном составе, все равно выходит победительницей из всех боев? Ответ мог быть только один: теперь, в 1944 году, соотношение сил изменилось, теперь наша армия умело и мощно громила врага; ее успехи принесли удачу и нам, флотским.
Короче говоря, я стал ярым сторонником самых прочных деловых контактов с армейским начальством, безоговорочно признал, что оно должно быть первым в принятии решения на совместный бой.
Второй недостаток, который я обнаружил, анализируя прошедшие бои, сводился к тому, что на Березине и Припяти не всегда командные пункты групп кораблей находились от места боя на таком расстоянии, чтобы командование могло своевременно и правильно реагировать на то или иное изменение в боевой обстановке. Например, во время боев на Припяти командный пункт 2-й бригады кораблей был в 30–40 километрах от фронта.
А больше всего думалось о том, что теперь воевать нам придется не на своей земле, а на территории Польши, откуда до Берлина, как говорится, рукой подать.
И гордость была, что мы наконец-то вышвырнули гитлеровцев с нашей родной земли, и в то же время тревога в душу закрадывалась: а как-то встретит нас народ Польши? Сразу же скажу, что трудящиеся Польши с радостью встречали нас, своих освободителей от фашистского ига. Я отлично помню и многие митинги, стихийно возникавшие в городах и селах, где мы появлялись, и развевающиеся рядом наши и польские флаги, и ту заботу, которой народ Польши окружал наших раненых товарищей. И лучше всего отношение трудового народа Польши к нам, своим освободителям, как мне кажется, характеризует такой исторический факт, который я не забуду до самых последних своих дней.
В конце июля 1944 года в бою под польской деревней Герасимовиче советский воин Г. П. Купавин, когда наша атака могла вот-вот захлебнуться, телом своим прикрыл амбразуру вражеского дота.
Через несколько дней после героической смерти Купавина на общем собрании жители деревни Герасимовиче приняли решение, в котором было записано и такое: «…Учителям каждый год начинать первый урок в первом классе с рассказа о воине-герое и его соратниках, чьей кровью для польских детей добыто право на счастье и свободу. Пусть прослушают дети рассказ стоя. Пусть их сердца наполняются гордостью за русского брата, воина-славянина. Пусть их понимание жизни начинается с мысли о братстве польского и русского народов».
И по сей день это решение выполняется без малейшего изменения.
Смущало меня только то, что в Польшу и Германию мы должны были прийти лишь освободителями от фашизма. Тогда мне казалось, что там, где ступила нога нашего воина, обязана была немедленно и навечно утвердиться Советская власть.
Это уже значительно позднее, когда окончилась война, я понял правильность нашей внешней политики того времени, а тогда, признаюсь, в душе против многого бунтовал.
Зато умом и сердцем сразу принял все, что касалось немецкого народа, сразу же согласился с тем, что он не должен отвечать за злодеяния фашистских главарей. Даже к пленным, как и прочие мои товарищи, не испытывал жгучей ненависти.
Между прочим, в Бобруйском котле и сразу же после высадки десанта в Пинске мы взяли много пленных, а видели и того больше. Мы были почти равнодушны к ним. А вот что касается власовского отребья…
Власовцев и всех прочих, подобных им, мы ненавидели, не верили им даже в самом малом. Может быть, еще и потому, что после Бобруйской операции попытались прикоснуться к душе одного из них.
Он долгое время скрывался в толпе пленных немцев. Потом, убедившись, что наши солдаты и матросы не проявляют какой-то агрессивности по отношению к ним, подошел к солдату, охранявшему пленных, попросил у него прикурить. На чистейшем русском языке попросил. Солдаты и матросы, разумеется, сразу же бросились к нему, вырвали из толпы пленных и начали спрашивать, кто он такой да как так случилось, что он стал активным помощником фашистов, поднял оружие на свой народ.
Он ответил, что в плен попал в 1941 году. Долго мыкался по различным лагерям, насмотрелся и натерпелся всякого. Потом, дескать, прибыли вербовщики. Вот тогда перед ним и открылись два пути: подыхать в лагере от голода и побоев или идти служить в отряд власовцев. Он выбрал последнее. Рассказал все это и торопливо добавил:
— Думал, подправлюсь на хороших харчах, получу оружие и убегу к вам.
Этот же власовец и сказал, что где-то под Краснодаром у него живут жена и дочь, что он скучает о них.
Вот и получилось, что, если верить ему, не преступник он, а жертва войны, если хотите — во всем виновата его судьба-злодейка.
И тут кто-то из матросов, кого нисколечко не тронула эта довольно-таки слезливая история, и предложил ему воплотить в реальность свою давнюю мечту — взять в руки винтовку и вместе с нами идти воевать против фашистов.
Как ощерился тот подонок, услышав это предложение! Что, снова воевать?! Да у него есть жена и дочь! Он три года не был в отпуске! И вообще ему надоело играть в жмурки со смертью!
Замечу, что разговор велся в спокойных тонах, а тут матросы, конечно, разозлились, ведь многие из них не три года, а дольше не виделись со своими близкими; а что касается игры в жмурки со смертью… Поэтому слова того подонка вызвали у нас не жалость, на что тот рассчитывал, а презрение, даже злобу.
Однако, как я думаю, и тогда смерть ему еще не угрожала. Но он перетрусил и бросился в Березину, поплыл к противоположному берегу. Пуля, разумеется, мгновенно догнала его.
Итак, мои матросы совершили самосуд, за который мне крепко влетело от начальства. И все равно я и сегодня не жалею о случившемся: одним мерзавцем стало меньше на земле.
И еще в период моего лечения случилось так, что я приехал в Киев как раз в тот момент, когда по его улицам, казалось, бесконечной толпой и во всю ширину проезжей части шли толпы пленных. Не знаю, сколько, но мне показалось, что невероятно долго, опираясь на костыли, я простоял на перекрестке, глядя на рядовых, офицеров и даже генералов, на тщедушных тотальников и заматеревших на грабежах и убийствах эсэсовцев. Теперь все они шли одинаково понуро. Словно не они еще недавно стреляли в моих товарищей и в меня самого.
В этот момент я невероятно гордился, что со своими матросами участвовал в тех боях, давших такое количество пленных.
Я залечивал рану, анализировал недавнее прошлое, думал о том, как мы будем воевать и вести себя на землях Польши и Германии, а флотилия в это время деятельно готовилась к грядущим боям — доукомплектовывалась людьми и кораблями. Причем (это являлось новинкой в плане военной науки) было решено одну бригаду в полном корабельном составе железной дорогой отправить из Пинска, а другую — из Мозыря. Пункт назначения — станция Треблинка, от которой до реки Нарев, где укрепился враг, было всего лишь 93 километра.
Казалось бы, разве это расстояние для наших катеров? Несколько часов ходу — и мы на месте!
Но я и сегодня с дрожью в сердце вспоминаю эти километры.
И только потому, что Западный Буг там, где мы оказались по воле командования, был чрезвычайно мелок — на перекатах до 30 сантиметров. О каком же плавании могла идти речь, если осадка наших катеров была около метра?