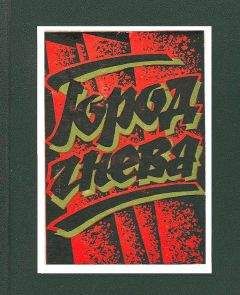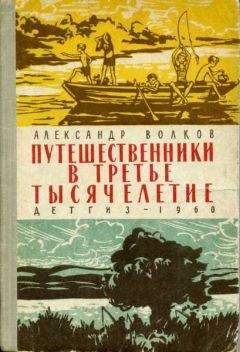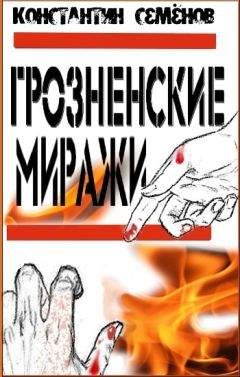У него было время, чтобы передумать все прошлое и настоящее. На будущее он не надеялся. Затишье после встречи с Кохом не сулило ничего хорошего. Его не выдворили из одиночки, по, видимо, уже потеряли всякий интерес к его персоне. Так бывает перед концом.
Надежда затеплилась третьего дня в бане, где встретился с Чумаком, оставленным в городе для подпольной работы. С ним он уже виделся однажды в «приемной», как называли заключенные сырое помещение распределителя. От него же и узнал тогда Сташенко о массовом провале в Днепровске.
Кусочек глинистого мыла приходился на двоих. Сташенко, изможденный и ослабевший, почти не мылся. Рука была обвязана грязным бинтом, а на плече багровела и сочилась открытая рана — след зубов овчарки.
Он рассказал Чумаку обо всем, что произошло.
— Постарайся дать знать на волю об этом. О Катьке тоже, — сказал он, закашлявшись и выплюнув сгусток крови. — Мне уже, видать, не выбраться.
— Еще не все потеряно, — Чумак сокрушенно покачал головой и стал надевать на мокрое тело грязное белье. Все здесь, в этой-толчее, были похожи друг на друга: машинка парикмахерши, пухлой девки с воли, уравняла сегодня всех, стерла, а точнее сказать, состригла различия между людьми — Не все проиграно, брат. Пока дышим...
— А что? Слыхать что-нибудь? — Сташенко косил, правый глаз его заплыл, и он им не видел.
— Подарочек нынче передали, последний шанс... План был отчаянный: заключенные общей камеры, освободившись с помощью тоненьких ножовок, тихо разоружают и уничтожают охрану, затем подбираются к одиночкам. Есть надежный адрес, где можно отлежаться после побега: румынский врач, приговоренный к смерти, назвал имена своих товарищей — Франца Пшенки и Альфреда Альтшуллера, работающих в городской больнице. Он сообщил также пароль. Ребята помогут дать обмундирование и документы.
Сташенко с непроходящей теплотой думал об этих работниках подполья, даже здесь, в адских условиях тюрьмы, не прекративших сопротивления.
Ни он, ни Чумак не догадывались, кто на воле заботится о них.
Рудой ждал.
Возле тюрьмы толпились родственники арестованных с кошелками и мешками. Рудой уже успел познакомиться со многими из них.
Солдаты через окошечко в железной калитке принимали передачи, что-то лаяли на своем языке, время от времени ворота с лязгом открывались, заглатывая очередную порцию заключенных, выпуская глухие и немые тюрьмы на колесах, прозванные «черными воронами».
Он осторожничал. Не дай бог попасться этим в лапы. Расспрашивал у родных подробности арестов и тут же исчезал, чтобы не навлечь подозрения. Прислушивался к разговорам: авось что-нибудь да просочится изнутри. Как там Сташенко? Рудой и в глаза его никогда не видел, знал только, что есть такой представитель областного комитета партии.
Некоторые счастливчики в ответ на передачи получали записки от своих. Их доставляли надзиратели из полицаев: одни — по человечности, другие — за мзду. Рудой тоже ждал...
Он знал, что парикмахерша успешно справилась с заданием, которое взяла на себя после долгих уговоров.
Они работали попеременно, заглушая легкий посвист ножовки тряпьем, которым окутывали руки и инструмент. Усталость приходила быстро: все недоедали. Но работа двигалась. В камере их было двенадцать, работали одиннадцать: одного свалила дизентерия.
Они тщательно конспирировали «рабочее место» у окна, забранного решеткой. Если удастся перепилить решетку, то ночью выберутся все до одного на невысокую крышу, откуда легко проникнуть в коридор главного корпуса, где размещается караул.
Это была отчаянная затея. Но как не поставить на последнего коня, который хоть и хромает на все четыре ноги, а, чем черт не шутит, может и вынести из этой кровавой кутерьмы! Вместе с тремя ножовками парикмахерша передала Чумаку записку: «Батька тяжело болен, хотел бы видеть, но невозможно. Однако надеется, что поздно ли, рано ли, а вернешься: власть справедливая, невиновных не судят».
Батьку-то Чумак и не помнил: сиротой был сызмалу.
Чумак знал в камере почти всех. Не все, правда, были с ним, с подпольем. Сидели люди и по случайности, которым авось удастся выбраться. Иных держали по подозрению. Но пятерка была надежных: студент Ярошенко из политехнического, Кимстач — бывший инструктор райкома партии из Васильевки, Попов — литейщик из Солонцова, Козловский — работник нарпита и ветфельдшер Цуканов — курянин, военнопленный. Все были коммунистами, и всем угрожал расстрел или медленное угасание в концентрационных лагерях, о которых уже хорошо были наслышаны.
За последние дни Костя Рудой отъелся. Ему было стыдно собственной сытости и вынужденного безделья. Засматривая иной раз в осколок зеркала, что на грязноватом подоконнике вместе с какими-то пузырьками, он обнаруживал благотворные перемены в своем облике и с тоской думал о Нине с полуголодными ребятишками. Он с радостью доставил бы им кусок свежей телятины, которой здесь было вдосталь.
Старуха, с опаской приютившая его, оказалась весьма практичной и разбитной. Ночью ей привели теленка, и тотчас же Рудой принялся за дело.
Коса, найденная в сарае, была ржавой, но Рудой дисциплинированно исполнил просьбу, почти приказ старухи, которая предоставила ему убежище.
Потом ел мясо. До отвала, до подлой сытости. Товарищи его голодали, носики его сыновей посипели и вытянулись, скулы Нины обострились от недоедания, а он жрал мясо, как говорится, от пуза, и не было возможности поделиться хоть с кем-нибудь.
Однажды ночью он проснулся от какого-то внутреннего толчка. Голова была ясная, словно ее продули освежающим ветром. Ощущение беды, чего-то непоправимого охватило его и не отпускало до самого рассвета. Теперь-то наверняка придется трогаться в обратный путь. Сегодня все решится. Он поторопится на явку, разыщет Вальку, исчезнувшего почему-то надолго.
Но утром Валька сам постучал в дверь. Предчувствие не обмануло Рудого.
Охрана ворвалась в камеру внезапно. Кто-то донес. Уж не тот ли, кто почти не слезал с параши?
Били всех без разбору. Кулаками, ногами.
Потом забрали Чумака. В полночь его втащили обратно в бессознательном состоянии. Брали по очереди всех из той надежной пятерки. Запахом крови и гниения потянуло в камере. Люди почти не стонали. Они уходили из жизни негромко, невольно забирая с собой и тех, кто готов был примириться, сдаться без сопротивления. Конечно же кто-то из них выдал смельчаков. Но кто?
Впрочем, теперь это было безразлично.
Рудой снова сидел в кресле, и намыленная кисточка весело поплясывала на его округлившихся щеках.
Парикмахерша равнодушно брила его, иногда щурясь, такая у нее была привычка. Она уже все успела рассказать ему, все, что знала.
— В тюрьме светопреставление. На стрижку вывели половину. Остальные, говорят, приговоренные. Охрана усилена, и меня едва пропустили. Все пересмотрели в инструменте, а у меня душа в пятки ушла. Может, и не с той причины, что я передала людям. Кольцо колбасы копченой, что с него за шум, скажи, пожалуйста, или с записки родительской?.. Освежить? Одеколон?
— Обойдемся, барышня, своим запахом.
— Что-то ты поскупел. Тот раз щедрее был.
— Ладно, дуй одеколоном, мать честная. Больно кровью пахнет наша житуха. Может, одеколон твой те запахи перебьет, а?
— Не пойму я таких разговоров. Давать одеколон?
— Давай.
— Не к барышне ли собрался?
— Ты же не примешь? А других знакомых у меня нет.
— Занятая я, сказала тебе, — она обдала его густой струей слабоватого, разведенного одеколона и затем, обмахнув салфеточкой и стерев с лица остатки пахучей влаги, припудрила ваткой щеки. — А парень ты, в общем, стоящий. Есть у меня подружка, может, придешь-таки, познакомлю. Чем занимаешься-то?
— На бойне я.
— Врешь, неправда.
— Крест святой.
— То-то, смотрю, какой гладкий.
— Отборным мясом питаюсь, чего уж там.
Парикмахерша усмехнулась и сняла салфетку с груди клиента:
— Готово.
— Сколько прикажете?
Она помолчала, и подстриженные брови ее чуть вздрогнули. Взгляд метнулся туда, сюда. В парикмахерской было безлюдно, товарки ее судачили в ожидалке.
— С меня еще сдача полагается, — сказала она. — Получи и уходи, живо.
Она сунула в руку Рудого монету.
Скрывшись за углом, он разжал кулак. На ладони лежала золотая монета, с которой он расстался две недели назад.
Самым важным теперь было оставить людям какие-то слова обо всем, что довелось увидеть, пережить здесь, в тюрьме, перечувствовать в одиночестве. События последних дней — избиения заключенных, пытки, издевательства над беззащитными — свидетельствовали о полном бессилии палачей и близкой расправе. Об этом хотелось сказать остающимся. Еще поблагодарить за попытку спасти из этого ада... Еще предупредить всех заключенных, нынешних и будущих, об уколах. Неужели до сих пор они не поняли, что страсти-мордасти о каких-то волшебных уколах, после которых подследственный выдает все, что ждет от него следователь, придуманы самими изуверами-следователями для облегчения своей заплечной работы? Все это подстраивается с помощью провокаторов, которые выведывают у заключенных некоторые подробности из их жизни, а затем — уколы, потеря сознания и провокация...