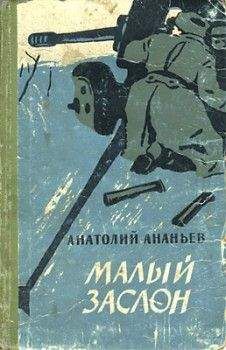— Что случилось? — крикнул я. — Почему не стреляете? Стреляйте, черт возьми!
«Доверяют же серьезное дело таким молодчикам, у которых пушки после двух залпов перестают стрелять», — мелькнула мысль. И вдруг я услышал в ответ произнесенные тем же сухим, костяным голосом следующие слова:
— Цель поражена, товарищ майор. Потрудитесь убедиться.
Я торопливо вскинул бинокль к глазам, полагая, что этот молодчик в своей самонадеянности перешел все границы. Но то, что я увидел, наполнило меня каким-то ошеломляющим чувством изумления или, если хотите, восторга. Наша пехота, которая залегла на фланге под действием японской батареи, поднималась и бежала в атаку. Ни одного японского снаряда не разрывалось над ней… Вы понимаете… Этот лейтенант разгрохал с двух залпов батарею. Передо мной был мастер. Я обернулся, чтобы сказать ему это. Но его уже не было на наблюдательном пункте.
Я сел на лошадь и поскакал в штаб. Из головы долго не выходили этот лейтенант и его виртуозная стрельба.
— Так ошибочно бывает иногда первое впечатление о человеке, — заключил свой рассказ майор. — Вот вам и каноны! В нашей стране они, должно быть, существуют для того, чтобы их преодолевать.
Он замолчал и опять занялся своей трубкой, которая у него все время гасла.
— Вы упустили одну деталь, — сказал вдруг артиллерийский капитан, молчаливо и с видимым интересом слушавший рассказ майора. — Наша батарея была неполного состава. Одно из орудий было выведено из строя.
— Позвольте, а кто же вы? — вопросительно уставился на него майор. Но сейчас же, видимо, догадавшись, живо проговорил: — Ага. Понимаю. Вы, вероятно, из того же дивизиона?..
— Командир дивизиона, — подсказал капитан.
— В таком случае вы лучше, чем кто-либо другой, можете подтвердить факт, о котором я только что доложил. Не правда ли, блестящий мастер стрельбы ваш командир батареи? Но чрезвычайно самонадеянный молодой человек…
— Постоянная ошибка с нашим Ваней-тихоней, — усмехнулся капитан. — Это один из самых скромных и стеснительных людей.
— Кто? Он? — удивленно воскликнул майор.
— Я сам только в последнее время разгадал его характер. Это был исполнительный, дельный, но чрезвычайно тихий и какой-то незаметный командир. Когда мне пришлось аттестовать его на должность командира батареи, я долго сомневался, справится ли он и будет ли иметь авторитет у подчиненных. Но вы представляете себе… Во время боев он оказался настолько твердым, мужественным, прямо железным командиром, что я его просто не узнал. И лихость какая-то в нем появилась, что больше всего меня поражало. Прямо переродился человек… Но чуть кончились бои, и он опять стал тише воды и ниже травы. Удивительный характер. Да вы с ним сами познакомитесь. Он на днях сюда приезжает.
— Это уж получается, как в сказке, — сказал, вмешиваясь в разговор, бородатый полковой комиссар. — Помните… Жил-был Иван, русский богатырь. Был он тихий да смирный, никого не трогал, ни к кому не приставал, никого не обижал. А враги думали, что он такой тихоня да простофиля по слабости своей, и решили напасть на него. Поднялся тогда тихоня-богатырь да как начал свою силу показывать, едва они ноги унесли. А потом вернулся с битвы и стал опять тихий, смирный да работящий…
Седая женщина, напряженно вслушивавшаяся в разговор командиров, при последних словах вдруг закрыла лицо руками и привалилась к ручке кресла. Потом поднялась, на глазах ее блеснули слезы, она украдкой смахнула их, растерянно оглянулась, как бы стесняясь минутной слабости, и твердой походкой пошла к выходу.
— Что с ней? — спросил кто-то.
— Тише. Она может услышать, — сказал артиллерийский капитан, кивнув вслед медленно удалявшейся фигуре. — Это — замечательная женщина, мать троих сыновей, геройски погибших на фронте.
— Да-а, — задумчиво проговорил майор. — Удивительные бывают характеры. Один поэт хорошо сказал: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей». Ну что же, пойдемте к морю. А то мы все еще думаем, что находимся на фронте.
Он поднялся с кресла и, слегка волоча правую ногу, стал сходить с террасы.
1939
Она бежала, не зная, куда бежит, ничего не видя перед собой, кроме стены мрака, сквозь которую она с трудом пробивалась. Тупая, ноющая боль в висках по временам путала мысли. Нужно было остановиться и решить что-то мучительно неразрешимое. Но разве можно задержаться хоть на мгновение. Нет, нет! Скорей! Скорей из этого ада! Какие-то люди бежали рядом с ней, они так же, как и она, устремлялись прочь от города, где господствовали сейчас огонь и смерть. Все молчали, боясь выдать себя, как будто в грохоте канонады можно было услышать слабые человеческие голоса.
Сыпал назойливый осенний дождь. Было холодно. Она бежала, простоволосая, с открытой шеей. В лицо ударял резкий ветер. Ноги, обутые в легкие туфли, промокли.
— Пани! — услышала она рядом дрожащий голос. — Пани, оглянитесь…
«Кто это? Ах, это Стася, горничная». Она бежала вместе с ней. «Что ей нужно?»
— Тише, тише, Стася, не кричите так. Тише… Вы очень кричите… Нас могут услышать…
— Пани… Посмотрите, Варшава горит…
Она обернулась. Полнеба было охвачено пожаром. Пламя вздрагивало, трепетало, колыхалось, как гигантский ярко-желтый занавес, колеблемый ветром. Показалось, что огонь настигал их.
— Бежим! Бежим!.. — в ужасе вскрикнула она.
— Пани, то, верно, занялась Маршалковска.
«Что она кричит, эта несносная Стася?»
— Горит наша улица. Пани…
«Ах, пусть все гибнет, квартира, мебель, платья. Все, все. Ничего не жалко». На мгновенье подумала о скрипке работы Страдивариуса, бесценном сокровище, которым она обладала. Но и эта мысль не ужаснула ее. Она еще раз оглянулась на горящий город.
«Жить! — все кричало в ней. — Жить!»
Туфля соскочила с правой ноги и отлетела куда-то в сторону. Не останавливаясь, женщина побежала дальше.
* * *
Павле Ковальской было тридцать лет. На днях она справляла день своего рождения. Собрались гости. Муж, по обыкновению, до ночи засиделся в министерстве и не попал на торжество.
«Неужели даже в этот вечер он не мог выбраться хоть на час?» — с досадой подумала она.
Причины его отсутствия она не знала и склонна была все объяснить черствостью натуры мужа, человека и в самом деле сухого и педантичного, с уязвленным самолюбием чиновника, которого недостаточно быстро продвигают по служебной лестнице.
Однажды, когда Павле предстояло выступить в концерте на традиционном балу у президента, муж попросил ее найти случай поговорить с его шефом, министром, который тоже будет на балу.
— Вам, артистам, многое прощается, — сказал он ей. — Ты можешь прямо поставить вопрос: «Мой муж незаслуженно обижен». В самом деле, Квятковский давно директор департамента, а я все еще чиновник для поручений, как мальчишка, — зло сказал он. — Тебе ничего не стоит помочь мне, — посмотрел он на ее нахмурившееся лицо. — Ты же музыкант, артистка. Ты можешь все это сыграть.
— Не все! — холодно сказала она.
— Между прочим, подчеркни в разговоре с шефом, — продолжал муж, не обращая внимания на ее тон, — что я отзывался о нем, как о большом человеке, ведущем Польшу к великим целям.
Она вздохнула, вспомнив эту беседу.
Гости заметили ее задумчивость. В самом деле, ей было немножко грустно, она даже не знала почему.
Взяла скрипку и начала играть. И то, что она играла, было похоже на жалобу. Ей казалось, что она что-то хоронит сегодня.
Гости неумеренно восторгались ее игрой.
Когда разошлись, она зарылась лицом в подушку и тихо плакала. Плакала, как плачут дети, когда их обидят. Хотелось, чтобы кто-то подошел, положил руку на толову и по-отцовски, тепло приласкал ее. В окружавшем ее мире слишком много было фальши, холода и лицемерия.
Муж не пришел, предупредив по телефону, что его задерживают в министерстве дела.
На другой день она поняла, почему он не мог прийти. Произошли непредвиденные, страшные события.
Утром в комнату без стука вбежала Стася и выпалила новость:
— Пани, вы слышали? Немцы перешли границу. Что с нами будет, родная моя пани? — залилась она обильными слезами, прижимаясь к ее плечу, словно ища защиты.
— Подождите, Стася! Что вы говорите?.. Не может быть… То, верно, сплетни…
— Ой! То правда, пани, то правда…
Стася еще сильнее заплакала.
Павла схватила телефонную трубку и позвонила мужу.
Его не было на службе: очевидно, министр услал с поручением.
Стала звонить знакомым. Некоторые приняли новость, как весть о землетрясении. Они еще ничего не знали. Другие были в курсе дела и высказывали десятки самых несуразных предположений. Третьи кричали о том, что тевтоны запнутся на пороге священной польской земли. Толком, впрочем, никто ничего не знал.