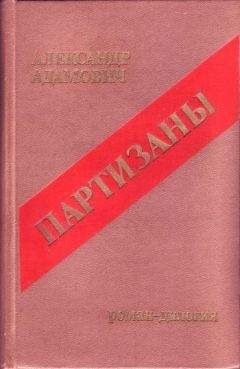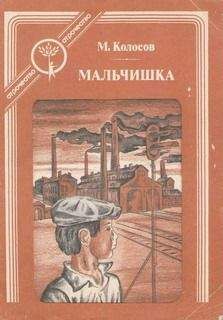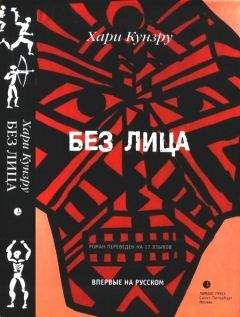Ознакомительная версия.
Какое-то глубинное чувство подсказало женщине, что опасно быть слабой перед этим человеком. Все такая же, в слезах, но уже не растерянная, а, наоборот, верящая, что она сможет доказать свою невиновность, Анна Михайловна заговорила:
– Посоветуйте, господин Хвойницкий, может, мне пойти в комендатуру, объяснить все.
Женщина словно и не понимает, что ее сейчас заберут и поведут туда силой, а там не очень-то станут интересоваться, виновата она или не виновата. Тяжело насупившись, бургомистр прикидывает: да, прав оказался Пуговицын… Но если так, тогда неправым будет выглядеть он, Хвойницкий. Чтобы эта жаба, Пуговицын, взял верх – ну нет! Он! Он, Хвойницкий, ручался за Корзуниху, а не за какого-то ее родича. Конечно же она выгнала своего шурина. Он назло ей и записку оставил у Лиса. Выгнала, мол, так теперь отдувайся за меня! Надо пойти послушать, что Шумахер станет говорить. Пусть берет на себя, а он, бургомистр, потихоньку отойдет в сторонку. Все они тут бандиты, в лес смотрят!..
Хвойницкий повернулся уходить, огромный в своей богатой шубе. И вдруг вспомнил:
– А это… сыны ваши где?
– На работе. Они даже не знают ничего. Всех погубил, и свою семью, и нас.
Бургомистр ушел. Что-то тяжелое пронеслось совсем рядом. Но оно вернется. И, возможно, ударит насмерть. Все теперь от случайности зависит: от настроения коменданта, от того, кто сегодня приедет в поселок, как будет держаться Шумахер, что сможет сделать Коваленок и его хлопцы, как поведут себя Пуговицын и бургомистр. Только бы дети не вздумали вернуться, только бы не пожалели ее!
Набросив на плечи старенькую плюшевую жакетку, Анна Михайловна пошла в аптеку.
Наде ничего говорить не надо – знает. Готовили лекарство и незаметно следили за шоссе. Вот Коваленок пробежал, бургомистр промаячил, Шумахер, глубоко спрятав руки в косые карманы поддевки, прошел куда-то, потом снова вернулся к комендатуре. Полицаи бегают: растащили барахло, что Лисы оставили, но, видно, лишь аппетит разгорелся.
Толя сидит в жарко натопленной большой комнате и смотрит в окно на знакомое гумно, распластавшееся среди поля: солома содрана, стропила торчат, как обглоданные конские ребра. За спиной у Толи всхлипывает Нина. Пристроилась возле печки во всех своих платьях и джемперах и плачет. Боится за Толину маму. А Толя не плачет. Он смотрит в окно и злится на Алексееву бесчувственность: расселся за столом и без конца вертит в руках будильник. А вот и зазвонил.
Порохневич приехал лишь к вечеру. Поставил велосипед в сенях. Вошел невеселый и поспешил сообщить:
– Все хорошо. Кажется. Пока. Риск большой. Удивляюсь Анне Михайловне. Как могла она решиться? Переночуете, а завтра…
– Нет, мы пойдем.
Это Алексей сказал, а значит, так и будет.
Когда вошли в поселок, почувствовали себя неуютно, как на сквозняке. Толя ловит любопытные, сочувственно-одобрительные взгляды поселковцев – это тревожит, но и пробуждает гордую радость.
Мама встретила их на пороге темной кухни: ждала. Просто и бесконечно устало проговорила:
– Вы не ужинали? Бабушка картошки напекла нам.
За столом царила особенная близость. Бабушка подкладывала маме лучшие картофелины, даже мяла их в пальцах для нее.
Только после большой и опасной дороги люди начинают так ценить простой домашний мир.
Назавтра ушли на работу пораньше. Мать велела не возвращаться, пока Порохневич не побывает в поселке. Алексей протестующе покраснел.
– Ну что вы, детки, вы же мне ничем не поможете.
На шоссе встретили Пуговицына. Как стервятник, неся круглую голову на вытянутой шее, промчался мимо, лишь глазами выстрелил. А сзади остановился и сказал почти торжествующе:
– Ушел шурин в банду?
Обернулись к нему, не зная, как ответить. Алексей пробормотал: кто, дескать, мог знать?
– Я знал.
И пошел, хлопая полами кожанки.
На работе сегодня много улыбок. В глазах у Янека, у Михолапов, у Повидайки и даже у Голуба – вопрос, восторженное удивление. Алексей хмурится, а Толя все это принимает охотно, как подарки в день рождения.
Казик опоздал на работу. Явился и:
– Молодец Павел, решился раньше других!
Восклицание свое Казик словно из кармана выхватил.
Видимо, всю дорогу шел и репетировал, чтобы прозвучало беззаботно, искренне. Но в глазах растерянность, страх. Толя доволен: ну, ну, поизвивайся теперь!
Было строго-настрого установлено: сразу после посещения аптеки каждый должен идти в комендатуру. Подозрительных обыскивали, немецкий врач проверял, какие лекарства больной получил и вообще болен ли он. По этому поводу шутили:
– Видите, как беспокоятся, чтобы нас правильно лечили. А вы говорите!
Мама держалась на одних нервах. Лицо без кровинки, под глазами морщины, вся темная – больно смотреть.
За медикаментами теперь приходит учительница из деревни. Очень строгая на вид. Толя в ее присутствии почему-то смущается, точно он не выучил чего-то. В руках у нее всегда корзинка. И заходит – корзинка пустая, и уходит – пустая. А лекарства, бинты уносит – Толя это знает.
Случалось и непредусмотренное. Из окна аптеки увидели Лесуна. Бредет в огромном кожухе, живот руками поддерживает.
– Родилку Артем ищет, – со смехом заметил какой-то больной.
Рыжебородый Лесун прошел по мостику, поднялся на крыльцо и тут грохнулся прямо под ноги Фомке-полицаю, который вечно торчит возле аптеки.
– Перебрал, дед? – с уважением и завистью спросил Фомка.
Стонущего Артема втащили в аптеку, подняли на широкую скамью.
– Докторка, помру сейчас, кишки завязались, переворот сделался.
– Будьте добры, кликните доктора Грабовского, – попросила мама Фомку. Тот хмыкнул и ушел не к медпункту, а в сторону комендатуры.
Не переставая вопить, Лесун шептал:
– Ой, о-ой… Забыл, как его, черта… Батюшки мои!.. У командира воспаление легких… Смертонька моя пришла!
– Сульфидин, – поняла мама.
– Во, во… воечки, воечки!
А Пуговицын наглел. Ввалился однажды ночью. Лицо кирпично-красное, полы кожанки белые, обмерзшие. Просунулся в зал и остановился, пьяно раскачиваясь. Увидел себя с винтовкой в большом зеркале – это натолкнуло на какую-то мысль. Стащил с плеча десятизарядку, хватается за затвор.
– Десять бандитов – тах, тах и – кон дела.
С женским страхом мать смотрит, как пьяный возится с оружием.
– Оставьте в покое вашу винтовку, господин Пуговицын.
– А, докторка… мадам Корзун…
Улыбнуться не удалось: затвердевшее от мороза и водки лицо лишь перекосилось в гримасу. Брякнулся на стул, не удержался и с грохотом опрокинулся вместе со стулом на пол. Стволом винтовки достал зеркало, зазвенев, оно ослепло нижней половиной. Раскорячась, Пуговицын поднялся с пола, окинул хозяев злым взглядом.
– Ага, так, не нравлюсь… не тот гость в доме доктора…
– Почему же? – спокойно возразила мать. – Только по-человечески надо.
Принесена была из кладовой капуста и самогон в четвертушке. Пуговицын все подсчитывал, сколько партизан он может убить из своей десятизарядки или гранатой. Стащил шлем. Бритая голова бледная, голубоватая, а лицо грязно-красное, будто наклеенное.
– Бог с ними, с партизанами, – сказала мать. – Закусите лучше.
– А вы, мадам докторка?
– Со старшим моим выпейте, как мужчины.
– А у доктора видная жена, ви-идная, это все знают. Мне надо поговорить с вашей мамашей. Идите отсюда. Сказано!..
Алексей поднялся с дивана, Толя вдруг увидел, что глаза у него начали стекленеть, как бывало у отца, когда он вот-вот перестанет владеть собой…
Мама схватила Алексея за руку, оттолкнула, а Пуговицыну сказала:
– Что за ерунда! Никуда они не уйдут.
– А я сказал…
– Хватит! Завтра я иду в комендатуру.
Пуговицын тяжело поднялся, по-волчьи узко посаженные круглые глаза его, кажется, совсем сошлись на переносице.
– По-ойдешь! Как миленькую поведут. Хорошо – так хорошо, а нет – попомните Пуговицына.
Не переставая угрожать, полицай вывалился за дверь, в темноту, откуда и появился.
– Уйдите от света, еще выстрелит! – забеспокоилась мама.
– Ну и пускай, – упрямо отозвался Алексей.
Толя задул коптилку.
– Опрокиньте вазоны, стол. Ну, что вы, не понимаете? Что-то предпринимать надо, погубит он нас.
Но когда Толя с удовольствием опрокинул тяжелый фикус вместе с табуретом, мать не выдержала:
– Осторожно ты!
Утром она, осмотрев комнату, в которой будто лошади на постое были, отправилась к Шумахеру. Но дома его не застала. Надо опередить Пуговицына, придется идти в комендатуру. Забежала домой, чтобы твердо знать, что дети ушли на работу Отправила вслед им Нину с наказом не возвращаться до завтра.
Подходила к часовому, который прогуливался около колючей проволоки, и еще не знала, повернет ли в комендатуру или сделает вид, что ей нужно прямо. Часовой остановился и от нечего делать поджидает ее. Она подошла к нему, попыталась объяснить, что ей – к Шумахеру. А переводчик как раз на крыльцо вышел, крикнул, чтобы ее пропустили. Женщина заговорила еще издали:
Ознакомительная версия.