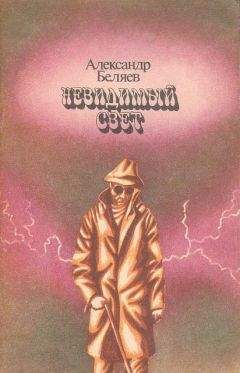ужасной ностальгии. Ребенок в моей душе сопротив-
лялся тому, чтобы войти в мир взрослых и быть ему без-
условно выданным. Я мечтал о нашем буковом лесе, в
котором знал каждый уголок, о колодце под вековой ли-
пой, где мы собирались по вечерам, об узких кривых
переулках, любимом городе и его красивых девушках,
на которых я тогда только начинал смотреть другими
глазами. ^
И я первым покинул эту дружескую атмосферу. Парни из моего окружения за редким исключением были детьми рабочих. Роскошь была нам чуждой. Летом мы босиком бегали по горячим камням мостовой, лугам и полям. Мы воровали яблоки из крестьянских садов, чтобы потом насладиться ими в каком-нибудь укромном месте. Ловили руками форель и белорыбицу в Урльбахе и запекали их на угольях, купались в ледяной воде Иббса, короче говоря, мы были завзятыми озорниками.
А теперь? Прощай, детство, и ты ввергнут в мир строгой холодной законности.
В те дни мы должны были по почте выслать домой нашу гражданскую одежду. Я делал это с тяжелым сердцем, как будто надо было расстаться с чем-то старым и любимым. Пуповина, соединявшая меня с гражданской жизнью, была окончательно перерезана.
По вечерам я сидел на подоконнике нашего помещения и смотрел на юг, туда, где думал, что находится моя родина. Каштаны в парке Шиллера, наверное, уже отцвели. Теперь чудесный аромат распространяется по широкой липовой аллее, где в сумерках встречаются молодые парочки.
Тем временем стемнело. От главных ворот лагеря раздались звуки «Вечерней зари». Медленно и, как мне показалось, тяжело прозвучал троекратный сигнал трубы, созывающий солдат в их казармы. Было что-то определяющее в этом сигнале горна, он как будто говорил: «Мальчик, оставь мечты! Думай о прошлом с удовольствием, но вся жизнь у тебя впереди!»
Что она могла принести, та жизнь, которую я ждал? У меня не было уверенности, и я не мог сразу сказать, почему. Несколько дней назад я написал своей матери: «Если судьбе будет угодно, чтобы я провел свою жизнь не вне стен, как сейчас, а в стенах концентрационного лагеря, то мне не захочется больше жить». Каким же я еще был ребенком, когда писал эти строки! Нам же было строжайше запрещено писать что-нибудь о концлагере. Уже этих строк, попавшихся на глаза почтового контроля, было бы достаточно, чтобы я сменил свой мундир на одежду заключенного. У меня постоянно возникал вопрос о смысле моего пребывания здесь, поблизости от концентрационного лагеря. Мое желание было стать солдатом, защищающим Рейх. Для этого я пошел на суровую учебу с оружием в руках, а не для того, чтобы охранять арестантов.
Сегодня нам на вечернем построении объявили, что наша рота заступает в караул. Теперь мы стояли перед стендами на первом этаже и учили «табель постам» и «Постовую ведомость», в которых сначала ничего не понимали. Моя фамилия была указана напротив «Поста по охране казарм». Остальная рота направлялась на посты по охране концлагеря. Смена караула в 12.00.
На следующее утро — снова занятия по караульной службе. Нам еще раз объяснили обязанности часового. Особенно часовым в концлагере было строго указано соблюдать требования и корректно относиться по отношению к заключенным. Снова нам напомнили требование, не приближаться к заключённому ближе, чем на пять шагов, и запрет на разговоры с ними, так как это может отвлечь внимание от охраняемых. Невнимательность означала опасность для жизни. Внимание обращалось на то, что в лагере находятся много профессиональных преступников, которые могут воспользоваться любой возможностью для побега. Каждое отделение караула получило точную задачу: караульные на вышках втроем занимали свои места на караульных башнях. Очередной часовой находился на площадке кругового обзора у пулемета и прожектора. Башен было много. В ночное время часовые патрулировали по внутреннему периметру стены, подходы к которой были отгорожены колючей проволокой. Там же параллельно стене по земле проходила широкая белая полоса. Заключенным было объявлено, что это — «полоса смерти». Если они переходили эту полосу, то по ним открывался огонь. Однако нам объявили, что мы должны открывать огонь только тогда, когда заключенный уже забрался на забор и центр тяжести его тела уже явно сместился наружу, так что при попадании в него тело должно свалиться на внешнюю сторону ограждения. Нас предупредили, что часовой, открывший огонь легкомысленно и поспешно, будет иметь большие трудности при прохождении комиссии по расследованию. На наш вопрос, почему необходимо соблюдать такие правила, а не открывать огонь, когда заключенный уже преодолел забор из колючей проволоки, мы получили ответ: «Только тогда, когда заключенный свесился наружу за забор, суд примет решение, что у него были намерения покинуть лагерь!»
Если часовой нервный и не успеет выстрелить, то будет прав только тогда, когда беглец спрячется в лесу. На наше возражение, что при стрельбе поверх стены существует опасность поразить очередью часовых на соседней вышке, от нас просто потребовали выполнять соответствующие распоряжения. Ага! Всё по-прусски: «Прриказ есть прриказ!!!».
Для охраны заключенных, работающих вне лагеря, часовых выставляли цепью. Она огибала широкой дугой соответствующее место работы и полностью его отгораживала. Кроме того, создавались конвойные группы для охраны больших и малых рабочих групп, выполнявших работы на территории казарм. Поэтому выделялись еще «бегуны», которые охраняли и осматривали каждый въезжающий на территорию лагеря автомобиль и его водителя.
Мы, казарменный караул, еще раз потренировались в ритуале смены караула: сигналу горна и барабана, подъему и спуску флага.
После обеда пришло наше время. Рота построилась в казарме, выдали боевые патроны, и я впервые в жизни взял в руки смертоносные патроны для возможного лишения жизни человека. Лагерная охрана пошла строем к воротам казармы. Зеваки наблюдали за сменой караула. У меня была вторая смена, я стоял на посту с 14 до 16, с 20 до 22, с 2 до 4 и с 8 до 10 часов. Каждый, входящий в лагерь, должен был предъявлять пропуск. Посетители получали сопровождающего часового. Те, кто покидал лагерь, должны были предъявлять увольнительную. О тех, кто без ночной увольнительной прибывал в лагерь после «Зари», докладывали в роту.
По вечерам караул выстраивался возле флагштока с винтовками «на караул»: «Флаг спустить!» А по утрам: «Флаг поднять!» Ровно в 12 часов нас сменил новый караул, и мы отправились в расположение. Мы надеялись на отдых во второй половине дня, а вместо этого с нами стали проводить занятия по тяжелому пулемету и противогазу, которые в ближайшее время должны были поступить к нам на вооружение. Во время перерыва мы повалились на газон и болтали о нашем первом карауле. Я спросил одного о карауле в концлагере, как там быть в сторожевом оцеплении. Он сначала ничего не сказал, а потом буркнул на диалекте: «Обожди, потом сам скажешь каково!» Больше от него было ничего не добиться. Он был очень напряжен, и я оставил его в покое.
Через несколько дней пришла и моя очередь: i(apayn в концлагере. Наш отряд из пятидесяти человек к 12 часам вышел на строящийся кирпичный завод, находившийся приблизительно в километре от лагеря и оцепил эту большую строительную площадку. Теперь я стоял под редкими соснами, солнце припекало с летней силой. Напрасно было искать жалкую тень под этими деревьями. Уже вскоре я понял, какое это счастье, занять выгодное место. «Старики» заблаговременно вычисляли для себя выгодные места и пытались еще до развертывания цепи постов занять правильное место в строю, чтобы потом в соответствии со своим расчетом оказаться там, где получше. Такими считались укромные уголки, которые не сразу может разглядеть проверяющий начальник или где можно незаметно ненадолго отлучиться и не спрашивать каждый раз разрешения сходить по малой нужде. Кроме того, были посты, на которых было не скучно стоять, например, места с оживленным движением поблизости от дорог или у судоходного канала. С удовольствием попадали в команды для конвоирования мелких групп заключенных для работы в отдельных местах. Там можно было так устроиться, что проверяющего было видно уже за несколько сотен метров, и приготовиться к его встрече.
Было довольно нелегко в любую погоду — в жару или под проливным дождем — полдня стоять на одном месте, при этом оставаясь наедине со своими мыслями: «Часовому, если не приказано иначе, запрещается сидеть, лежать или прислоняться, есть, пить, спать, курить, разговаривать (за исключением отдачи служебных указаний), принимать какие-либо предметы и покидать пост до смены».
Сегодня до следующего поста в цепи около 80 метров. Слева стоит Руди, а справа — Зигфрид. Оба — из Тироля. Зигфрид — самый старший среди нас и поэтому имеет устоявшиеся взгляды. Людей его типа воспитать в «новую личность», как это мыслилось, не удавалось, потому что воспитуемый сам еще не достиг собственной твердости.