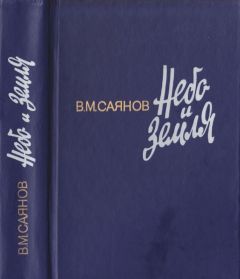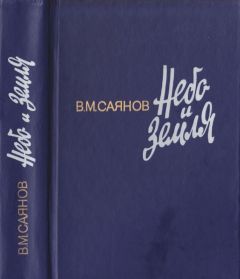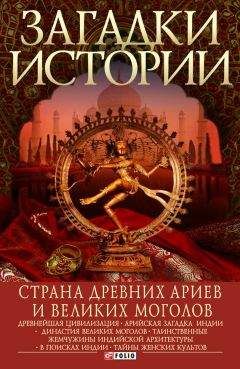— Никос совсем еще мальчик… — заговорила Клио кротко, чуть испуганно. — Ему приходится работать, иначе он пошел бы учиться. Он тебе не чета.
Сарантис был искренне огорчен. Потирая рукой небритую щеку, он слушал Клио и смотрел на цветы в жестяных банках, которые Урания расставила во дворе. Почти все они к зиме увядали, но весной снова давали ростки и зацветали, распространяя вокруг благоухание.
— Мне очень жаль… — повторил он.
— Другие, наверно, привыкли к такой жизни, — продолжала девушка, — а я предпочитаю умереть, если ничего не изменится.
— Что же так мучает тебя? — с расстановкой спросил он, в недоумении глядя на нее.
— Я и сама не знаю, — волнуясь, сказала она. — Мне опостылело вышивание. Опостылел этот грязный квартал, бесконечные ссоры; каждый день то же самое. Все вы заладили одно: про завод, безработицу, зарплату. Мне и это опостылело. Иногда я чувствую, что задыхаюсь здесь. — Она вдруг замолчала и закусила губу, а потом прибавила более спокойно: — Только отец меня понимает. Если бы он меня слушал, мы бы жили иначе!.. — Она внезапно замолчала, словно пораженная своим признанием.
— Мне кажется, ты его осуждаешь больше всех, — сказал Сарантис.
— Я?!
— Да. Ты не можешь простить несчастному старику, что он так опустился.
Некоторое время оба они смущенно молчали. Сарантис мял в руках кепку, Клио судорожно ломала пальцы.
— Тебя в один прекрасный день арестуют, — вырвалось вдруг у девушки.
— А ты обо мне пожалеешь?
— Мне-то какое до тебя дело? — Клио рассмеялась нервным смехом. — Тоже красавчик выискался! Скажи-ка, а когда ты ложишься спать, ты стаскиваешь с головы кепку? — Она подошла к своей двери и, остановившись на пороге, крикнула: — Стаскиваешь кепку? А? Или рабочему человеку, по-твоему, не положено спать без кепки? Ха-ха-ха! — И она захлопнула за собой дверь.
И тут Сарантису ничего не оставалось, как опять улыбнуться растерянной улыбкой.
Он постоял немного в надежде, что Клио выйдет к нему, и, не дождавшись, пошел на работу. Никоса он, конечно, не мог догнать, тот давно уже скрылся из виду. Холодный ветер пробирал до костей. Сарантис шел по улице, втянув голову в плечи и надвинув кепку низко на лоб, чтобы в глаза не попала пыль. Смех девушки еще звучал у него в ушах.
Ему хотелось взглянуть на себя в зеркало, но неудобно было заходить в кофейню. «Да, шут ты этакий, вид у тебя довольно-таки смешной, когда ты надвигаешь кепку на самые брови. Кого это ты изображаешь? Пролетария? Или считаешь, что ради пользы дела ни днем, ни ночью не надо расставаться со своей паршивой кепчонкой? Она только и может, что давить тебе на лоб», — разговаривал он мысленно сам с собой.
Завернув в переулок, ведущий к фармацевтическому заводу, он сорвал с головы кепку и закинул ее подальше. Вдруг он увидел издали полицейских, стоявших у забора против заводских ворот. Сарантис прибавил шагу.
В то время как полицейские стояли наготове возле заводских ворот, к столичному вокзалу подходил утренний поезд. Пассажиры третьего класса прилипли к окнам вагонов. Узлы, корзины, чемоданы, крик, суета. Крестьянка, везущая кур и гусей, опять чуть не вытеснила Тимиоса с лавки, и бедняга сидел еле живой. Правда, он крепко держал в руках котомку с пшеничным хлебом и занимал поэтому довольно много места. Он ни за что на свете не расстался бы со своей котомкой, ведь поп Герасимос сказал ему перед отъездом: «Смотри, осел, как бы в дороге у тебя ее не стянули».
Тимиос с трудом перевел дух. Прижавшись головой к чьему-то локтю, он смотрел в окно на народ, толпившийся на платформе. Потом робко подошел к проводнику в форменной фуражке.
— Ну вот и доехал ты до Афин, — весело сказал проводник. — Выходи. Ступай своей дорогой. Только учти, здесь тебе придется потуже затягивать ремень на пустом брюхе…
Но парнишка уже спрыгнул с подножки. Обритый наголо, в серых холщовых штанах, из которых он давно вырос, Тимиос шел по платформе, судорожно прижимая к груди котомку с хлебом и пожирая глазами людей, попадавшихся ему навстречу. Он был похож сейчас на загнанного зверька.
Когда Тимиосу в день святого Димитрия исполнилось тринадцать, мать послала его в церковь приложиться к иконе и помолиться, чтобы тот дал ему немного роста, ума и счастья. Денег на свечку не было, и мать сунула ему в руку просвирку. Тимиос поклонился образу святого Димитрия и поведал ему о беде, приключившейся в тот год с его матерью…
Толпа вокруг поредела, растеклась по разным улицам. Тимиос глазел на дома, трамваи, мостовую, залитую асфальтом. Он брел, сам не зная куда, чувствуя себя страшно одиноким в этом шумном рое людей. Ему хотелось припуститься во все лопатки, убежать отсюда, вернуться в деревню. Он не спал всю ночь, сторожа свой хлеб, а теперь, усталый и разбитый, не в состоянии был ни о чем думать. Присев на край тротуара, он положил голову на котомку и задремал.
Вскоре Тимиос очнулся, протер слипшиеся глаза. Ему хотелось отщипнуть немного хлеба, но он сидел в нерешительности, посасывая семена кунжута. Потом вытащил из башмака письмо отца Герасимоса, вспомнив о его наставлении показать конверт полицейскому, который поможет ему разыскать дядю. «А ты, дурак, не зевай и держи рот на замке, покуда не доберешься до своего дяди Стелиоса».
Вот бежит собака! Тимиос улыбнулся ей, точно доброй знакомой, повстречавшейся в чужом краю.
— Фью-фыо, псина… — Но шельма его даже не заметила. — А ну ко мне, псина. Скажи-ка…
Но что могла сказать ему собака? А мальчонке хотелось поговорить хоть с кем-нибудь… Собака перестала обнюхивать край тротуара и бросилась вслед за тележкой угольщика. Она обогнала впряженного в тележку осла, потом покружилась вокруг какого-то железного столба и вернулась назад, чтобы порыться в куче мусора…
Отца Герасимоса Тимиос ненавидел за его слова, сказанные на похоронах матери. Поп не мог простить ее даже после смерти. Иначе он не проворчал бы деду Саввасу, закапывавшему могилу: «Легкомысленна была Спиридула, вот и маялась. Бог правду видит». Но это не мешало попу каждый год присваивать несколько килограммов пшеницы, когда он расплачивался натурой с матерью Тимиоса, работавшей поденщицей у него в усадьбе. А стоило Спиридуле сказать хоть слово, как он разражался проклятиями, а потом, успокоившись, протягивал для поцелуя руку. «Ступай, голубушка, да благословит тебя бог. В другой раз не греши».
Тимиос знал, что болтали в деревне о его матери. Она, мол, легкомысленная, бесстыжая, пропащая женщина, связалась с каким-то бродягой, у которого не было ни кола ни двора. И подумать только, даже не обвенчалась с ним. Но Тимиос был уверен, что мать жила бы счастливо с его отцом Захариасом, если бы тот не утонул в реке. Беднякам нет счастья. Вот Спиридуле и пришлось вернуться брюхатой в свою деревню…
Собака, подбежав к Тимиосу, стояла и смотрела на него.
— Ты что уставилась, псина? — прикрикнул он на нее и, засунув руку в котомку, отщипнул корочку хлеба, малюсенький кусочек. Но на голодный желудок лучше себя не дразнить. Разве насытишься крошкой?
…Тимиос жил вместе с матерью в избушке, стоявшей на отшибе. Родные даже на порог к себе не пускали Спиридулу и имени ее слышать не хотели. Всю зиму мать и сын сидели одни в своей хижине. В холода, когда не хватало дров, Тимиос пристраивался около матери и прятал голову к ней в колени, а потом Спиридула, забросав сынишку соломой, старалась согреть его еще и теплом своего тела, словно наседка, высиживающая цыплят. И Тимиос засыпал.
Но бывало, что и им улыбалось счастье. Иной раз проснется Тимиос утром, а от земли тянет таким опьяняющим ароматом, что хочется резвиться и скакать, как козленок. Мать уходила на поденку, а Тимиос, предоставленный сам себе, целыми днями бегал по полям. Вооружившись рогаткой, он без устали гонялся за птицами, водил на нитке майских жуков, воровал в чужих садах фрукты. А после полудня лежал где-нибудь в тенечке и посвистывал…
Опять рука его нырнула в котомку, и большой палец, как червяк, впился в хлебный мякиш. Одни только крошечный кусочек, и все. Парнишка был такой прожорливый…
Дома, в деревне, Спиридула, намолотив кукурузы, накладывала ему полную миску каши.
— Ну как, Тимиос, наелся? — спрашивала она.
— Вот сыру бы еще, мамка!
— Сыр едят только богачи, — отвечала она.
Тогда он житья ей не давал, засыпая ее вопросами, Тимиос очень испугался, когда после жатвы мать в первый раз заболела. Наверно, ее сглазили в деревне, когда она покупала козу, решил он. До дня святого Димитрия приступы повторялись несколько раз. Схватившись за живот, Спиридула валилась на пол, и ее рвало кровью. Тимиос приносил воды и поливал ей на голову.
— До чего ты вспотела! — удивлялся он. Вскоре боли ее отпускали, и она улыбалась ему.