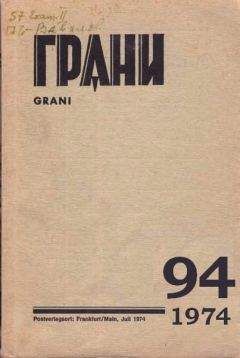«Дура дурой, — думал допризывник Гошка, сидя напротив Гани. — Дура, а вывернулась… Что-то есть в прислугах собачье… Нет, не собачье, а рабье. Захаробломовское. Костерят хозяек, а другим костерить не дают. Ловко она с Кавказом придумала. А эта Домна (так он окрестил старшую, хотя звали ту очень просто — Марья Ивановна)… Вот головастая! Государственная баба! Мускулистая рука рабочего класса!» — и он с неудовольствием вспомнил, как вчера эта самая рука не дала ему отдельно идти по тротуару. Пришлось залезть в самую середку колонны и давиться стыдом под бабье вытье. «Вот люди, — думал он. — Просился на фронт, сунули на траншеи. Ну ничего… Там сбежать легче…» И сразу же повеселел, правым плечом втираясь в уютную Санюру.
— Так ты, выходит, прислуга? — спросила старшая. — Домраба, значит? А договор, небось, не оформляла?
— Не успела, — униженно кивнула Ганя.
— Она шпионка, — сказал Гошка. — Вы за ней в два глаза глядите.
Наверху опять засмеялись.
— Шпионка, пшенка! Шиш тебе! — завелась Ганя.
— Ладно, смейтесь без меня. Проверю, как настроение.
Марья Ивановна пошла по вагону, и в первом отсеке сразу стало просторнее.
— Сдвинься, Санька! — хихикнула Ганя. — А то парень как свекла стал. Доходит от тебя.
— А чего? Пусть греется. Давай руку, Гошенька! — засмеялась Санька и впрямь сунула Гошкину ладонь себе за телогрейку.
— Ха-ха! — заржали сверху.
— Хи, — фальшиво визгнула Лия.
— Пусти, — смутился Гошка, выдирая руку.
— Не стесняйся. Я добрая, — веселилась Санька. — Если замерзнешь, пожалуйста. И сразу действуй, а не жмись, как карманщик. Дело житейское.
— Да ну тебя, — буркнул Гошка, не зная — то ли обижаться, то ли смеяться со всеми. Складная Санюра ему нравилась.
— Он к Ринке наметился, — сказала Ганя. — Ты для него «широка страна моя родная». Ему деликатного надо, вумствен-ного…
Поезд меж тем выскочил из Москвы. Сирен не было слышно, только дружно хлопали зенитки.
— Ого дают! — сказал Гошка.
— Да ну их! Насмотришься еще, — сказала Санька.
— Авиации у нас маловато, — вздохнула женщина, крайняя на Ганиной лавке. — С земли стрелять — это как мертвому капли…
— Капли! Ничего себе капли, — рассердился Гошка, — с одного осколка — нет самолета. Особенно если в бензобак.
— Воробью в глаз, — ответил сверху голос поглуше. — Где в его попадешь? Он на месте не ждет.
— Стреляют заградительными, — хрипло, будто ей сжали горло, объяснила Лия.
— А, ну тогда другое дело, — отозвались сверху. — Заградительными я понимаю. У меня племяшка в зенитных. Приезжала на той неделе. Говорит, один снаряд по деньгам — пара хромовых сапог. Слышишь? Вон уже три «Скорохода» в небо пустили.
— А ты не жалей! Мы богатые, — сказала Санька и сунула под лавку ноги в мужских латаных башмаках.
Все засмеялись.
— Не, может одну хромовую, — рассудила Ганя. — Это ж убийство. У меня двоих ребят, тоже племяшей, забрали, так ботинки выдали и к ним бинты толстые. А сапог, ответили, нету…
— На твоих и лаптей жалко, — сказал Гошка.
— У, паразит! Санька! Хайлу ему заткни! — заныла Ганя. — Лаптей!.. Они не жмутся, как ты. Всех девок на Икше попортили.
— Вояки! — хохотнул Гошка.
— У немцев большая сила, — сказали с полки над Ганей. — Что им твоими зенитными сапогами сделаешь? Они с умом воюют.
— Чего мелешь? — отозвались с полки напротив.
— Ничего. Мелю, значит, знаю. А ты рта не затыкай. Сама видишь, куда едем…
— Куда-куда… Военная тайна — куда…
— Тайна? Не в Берлин. Сто верст — не дальше.
— Версты?! Не в верстах дело! Дурни твои немцы. Их обмануть — раз плюнуть.
— Поплюйся-поплюйся, подруга. Христом богом прошу, — под общий смех сказала Санька.
— Да не в том дело, — повторил тот же голос. — Они дурные. Их обмануть легко. У нас беженцы два дня жили. Немцы, рассказывали, глупые. Обдурить их — пара пустяков. И украсть у них завсегда украдешь.
— Так чего ж бежали? — съехидничал Гошка.
— Ты, сопливый, молчи. Бежали, потому что советские. Кому охота под врагом жить? Это другое дело. А я о том, что немцы дурные. Их перехитрить можно. Паренек у беженцев, сын. Так каску украл, наган или винтовку короткую и еще две плитки шоколада. И ничего — отвертелся, поверили. А дочка у них, такая из себя подходящая, офицер сильничать хотел, сказала, что сифилис, и не стал — поверил. А один немец молоко пил, так за кринку две конфеты дал. И еще платить деньгами хотел, когда старуха нательное простирнула.
— А чего ж сбегли? — спросила Ганя. — Может, евреи?
— Да никакие не евреи. Просто советские. Я говорю, немца всегда обдурить можно. Он только вперед глядит, а сбоку у него глаз нету — одни уши, а они по-нашему не кумекают…
— Ну и не бегли бы, — сказала Ганя.
— Пораженка! — разозлился Гошка. — С такими не победишь.
— Заткнись, погань!
— От погани слышу. Вон как уловителями повела. У Рыжовых тащила, теперь у немцев надеешься.
— У, подлюка! — взвилась Ганя. — Да я тебе…
— Не волнуйся, тетка, — вмешалась Санюра. — Немцам ты не потребуешься. Они чистых любят. А ты, небось, с Рождества в бане не была?
— А ты мне спину не терла.
— Нет, — согласилась Санька. — Я в детсаду малолеток купаю. А таких, как ты, обмывают в морге.
— Съела?! — захохотал Гошка.
«Как им не стыдно, — подумала Лия. — Ведь они — хорошие. В каждом что-то настоящее есть. Даже в тете Гане. Как она вчера со всеми пела! Даже в самых плохих есть мужество и самоотверженность. Надо только открыть это во всех. Тогда победим. И не надо ссориться. Нужны хорошие организаторы. Марья Ивановна — она хорошая. Но она не может увлечь. Она для приказов. Надо душевную, такую, как Санюра. Вот из Санюры вышел бы организатор! Если б я умела так разговаривать с людьми. Но я не могу. Я некрасивая и неловкая. Меня слушать не будут».
— Не грусти, касатка, — сказали Гане сверху. — Вымоешься, бант повяжешь и неси поднос. Немцы лапать не будут. Только мяса у них не тащи. Они жирное любят.
— Да чего вы на меня? Да у меня племяши на фронте! — заплакала Ганя.
— Что за шум, а драки нет? — весело гаркнула Марья Ивановна, возвращаясь с инспекции. — А ну, подвиньсь! — толкнула она Лию. — Хоть посижу, вдруг не скоро придется.
4. Эх, картошечка, картошка
Их высадили посреди поля, километра за три от разбитой станции.
— Давай-давай! — орали старшие команд.
— Скорей-скорей! — нервничала, мечась по насыпи, поездная бригада.
— Так неловко… — оправдывались женщины, прыгая на насыпь.
— Ловко? Вон станцию ловко прямыми попаданиями… Как не было…
Бренчали ведра, стучали, падая, лопаты. Только и слышалось:
— Ой, ногу подвернула!
— Ой, мамочки, пятка!
— Аж по зубам… Боль-на!..
— Раз! Раз! — кричали железнодорожники, машинист с кочегаром. — И живо, живо в поле. А то опять прилетят! — И опасливо посматривали в сизое небо.
Было не очень ветрено, но как-то сиротливо. Окопницы пошли напрямик через неубранную картошку.
— Разберись по десяткам! — кричали старшие, но женщины шли кто как: идти строем мешала ботва. Нога то проваливалась в мягкую оттаявшую землю, то скользила по клубням.
— Пропадает! — вздыхали одни.
— Кланяйся да в подол! Потом напечем, — покрикивали другие.
— Сладкая небось, морозком прихватило… — останавливали их третьи.
Многие все равно нагибались, пытаясь на ходу подобрать вывернутые ногами картофелины.
— Левой! Левой! — орали старшие. — Некогда.
— Все вскочь! Все вскочь! — сердилась Ганя, хотя картошку не так уж уважала. Просто идти по неровному полю с киркой и лопатой радости было мало, да еще ее затравили в поезде.
«Грамотные, — сердилась она. — А как землю ковырять, так враз вся грамота мозолей выйдет. Ладно, шагай-шагай», — и она топтала ботиками мерзлую ботву.
Солнца не было. Только сквозь тучи что-то просвечивало, словно выйти стеснялось или тоже побаивалось немецких самолетов. Впереди за полем белела церковь, и возле нее загибалась асфальтовая дорога. «Хорошо бы на церкви артиллерийский наблюдательный пункт… Можно с телефоном или лучше с рацией. Вместо креста — антенна! Вот сила будет! — думал допризывник Гошка; он шагал поодаль от женщин. — Первая — огонь! Вторая — огонь! — командовал про себя, ковыряя полуботинками липкую землю. — Как займут красноармейцы окопы, останусь. — И он уже видел выкопанные траншеи, колючую проволоку и танковые ежи на дороге, которая пока еще одиноко змеилась мимо сельского храма. — Дальше, наверно, река, — думал Гошка. — Где это я читал, что церкви всегда над рекой ставили? Религиозники умели выбрать место. На реке хорошо оборону держать. Там и останусь. Каринка ведь все равно уехала…» И он вспомнил, как они с Кариной лазили на крышу тушить зажигалки. Но им не везло. В их дом ничего не попадало. Но все равно Каринкина мать закатила ему форменную истерику. Белая, валерианку пила, а потом, когда успокоилась, извиняться стала: «Поймите, Гоша. Ведь Карина у меня одна. У меня, вы знаете, больше никого нет». И он обещал больше не брать Ринку на крышу, даже на другой вечер пошел с ней в бомбоубежище. «Елена Федотовна еще ничего, — думал он. — А Каринка просто замечательная. Близорукость у нее пройдет. Как только зрение окрепнет, Каринка очки снимет. Но зачем, чудачка, читает лежа?..»