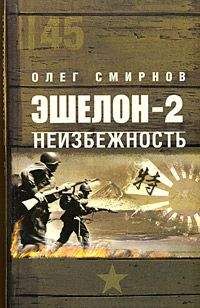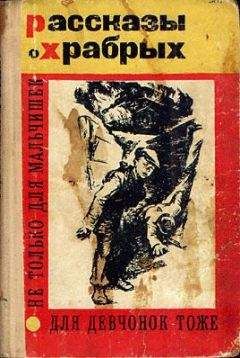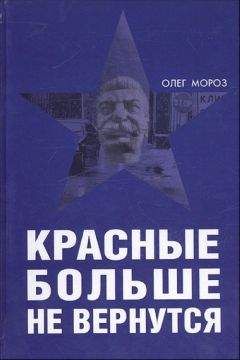Но если б совсем натощак!
Иванов дышал с хрипом, с хлюпом, закатив белки, на широком лбу полоски грязи, узкий подбородок рассекла глубокая ссадина. А у Петрова был узкий лоб и широкий подбородок, он брюнет, а Иванов блондин, у Петрова усы длинные, закрученные книзу, у Иванова — усики короткие, щегольские, но оба высокие, костистые, и когда-то на дне рождения старшины Колбаковского оба разрумянились от выпивки. Сейчас Иванов белый как мел. бледный был и Петров, когда его ранило.
Может быть, это было странно, но я пожал безответную, неживую руку Иванова. Вот и с ним расстаюсь, не узнавши толком. Не жилец? Живи, лейтенант Иванов, я очень прошу тебя об этом!
Его привычно уложили на носилки, санитары привычно примерились, взялись за ручки, подняли, привычно понесли, стараясь идти в ногу, чтобы не трясти раненого. Слишком привычно.
Как доложила разведка, гражданского населения в поселке вет, поэтому можно гвоздить. И пушкари, минометчики, самоходчики, танкисты, пулеметчики гвозданули по выявленному переднему краю обороны — по окопам, по дзотам, по огневым позициям артиллерии и вообще по поселку. На улицах, за опоясывающим поселок валом, вспыхнули пожары, задымило чадно. В бинокль было видно: на подступах к поселку задымились дзоты, пораженные прямым попаданием, — вверх полетели комья земли, камни, доски; земля и камни вздыбились фонтанами и там, где проходила траншея и ход сообщения. Японцы огрызались. Била артиллерия, били пулеметы. Кто-то ойкнул, кто-то визгливо назвал:
— Санитар! Давай сюды санитара!
Та-ак, знакомые словечки. Еще до атаки звучат.
Наш огневой налет длился с четверть часа. Под, конец его вижу: кто-то ползет из тыла к залегшей цепи, точнее — ко мне, Федя Трушин, друг разлюбезный! Обполз свежую ьорсшку, привалился ко мне:
— Здорово, единоначальник!
— Здорово, комиссар! Чего нелегкая принесла?
— Я к бойцам! — И пополз по-пластунски.
Поколебавшись, я двинул за ним, пусть и не в самую тень, но поближе к солдатам. Устав нарушаю! А-а, это комбат и выше обитают подальше, да и то не всегда. Командовать же ротой сподручно и отсюда.
Третья рута атаковала опорный пункт слева, в центре — вторая, а моя на правом фланге, как и при разведке боем, только еще больше сместилась вправо. Кончился артналет, комбат выпустил ракету, плохо видимую днем, я заверещал свистулькой, висевшей на шнурке, и цепь поднялась, придерживаясь неуклюже ползших танков. До вражеской обороны было сто пятьдесят — двести метров, пушки были подавлены, но пулеметы там и сям уцелели, стреляли очередями. Стреляли и снайперы. Мои снайперы засекали их в слуховых окнах, на крышах и при повторном выстреле «кукушек», надо полагать, снимали их.
Кроме танков, в боевых порядках шли самоходки, и те и другие стреляли с коротких остановок. Опорный пункт долбаем недурно, не хватает авиации, она б долбанула!
Танки ц самоходки перестали стрелять, катили в боевых порядках пехоты, молчаливо подбадривая своим присутствием.
Вскидывалось, опадало, вскидывалось «ура». И я на бегу вопил «ура», спотыкаясь, выравнивая шаг. Незаметно очутился в цепи.
Ощущение: словно только вчера кричал в атаке «ура». Метров за сорок до траншеи мы швырнули гранаты и, еще громче вопя «ура», строча из автоматов, припустили к ее изгибам. Краем глаза вижу: вырывается Трушин, обгоняют меня и сразу трое солдат.
Врешь! В азарте поддаю, догоняю опередивших.
— Ура! Ура! Ур-ра… А-а…
Я кричу, подхлестываемый близостью врага, опасностью и жаждой убить, чтоб самого не убили. И быстрей, быстрей! Опереди, первый нажми на спусковой крючок, первый брось «лимонку», первый ударь ножом или саперной лопаткой! Хотите укокать меня, курвы? Я вас укокаю! Зверея, кричу уже не «ура», а матерное. Вперед, в бога-душу, пуля рассудит!
Спрыгнул в траншею, зыркнул по сторонам: справа и слева были уже наши солдаты, растекались по изгибам. Японцев не видать. Вдруг дверь подбрустверной землянки с треском раскрылась, в траншею выскочил, гортанно вскрикивая, офицер, вскинул палаш. Я выпустил очередь, японец завалился на спину — и ОЧКУХ, щеточка усиков, желтые выпирающие зубы, на подбородке струйка крови. Я прислонился плечом к траншейной стенке, обшитой досками: слабость в руках, а в йогах тяжесть — куда девалась невесомость, с какой несло меня в атаку? И подташнивает. Отвык, что ли, убивать? Так рано отвыкать.
В ходе сообщения — топот, гвалт, истошное «банзай», и целый взвод японцев ввалился в траншею, схлестнулся с нашими. Заварилась рукопашная, как в добрые западные времена. Стрелять было нельзя: где своп, где чужие — не разберешь. Стоны, крики, удары. Я стоял как в оцепенении. Командовать? Что? Бессмысленно. Участвовать в рукопашной? Командиру роты? Мало разумного. И однако я отклеился от стенки и ударил прикладом в возникшее внезапно передо мной раскосое лицо с оскаленными кривыми зубами. И в этот же момент увидел: подкравшийся сзади японец коротким, резким движением вонзил винтовочный штыкнож в спину Головастикова. Я в ужасе закричал "Филипп!" и бросился к нему. Японец выдернул штык и повернулся ко мне. Молниеносно я ткнул его ногой в пах и, скрючившегося, ударил наотмашь затыльником автомата в висок. Японец упал. Я подхватил Головастпкова под мышки, чтобы выволочь из этой мясорубки, затащить в окоп, оказать помощь.
Помощь опоздала, потому что ножевой штык достал до сердца.
Перепачканный его кровью, я еще суетился возле Головастпкова. вскрывал индивидуальный пакет, приподнимал Филиппу голову, которую он ронял безжизненно. Я хотел позвать санитара или санинструктора, но голос отказал, в горле только пискнуло.
И люди, мелькавшие вокруг, увиделись мутными, расплывающимися. Понял, плачу.
Ты полежи, Филипп, полежи перед тем, как тебя зароют, а мпе надо в бой. Чтоб за тебя отомстить. Я положил сто голову, и она откинулась набок. Рукавом вытер себе глаза и встал. И побежал по траншее. Как в тумане, возникла фигура японца, выставившего перед собой карабин со штыком. Сработала мысль: поблизости наших пет. можно стрелять — я выпустил три-четыре пули.
За изгибом увидел японцев с поднятыми руками, оказалось: ошибся, это были маньчжуры. Я крикнул во все легкие:
— Кто поднял руки — не трогать!
Командирский рефлекс: надо предупредить солдат. Не то в горячке боя, в порыве мщения могут срубить и того, кто сдается в плен. Хорошо, что у самого рассудок на этот случай достаточно трезвый. Я крикнул:
— Ребята, давай по ходу сообщения! В глубь обороны!
Спотыкаясь о чьи-то ноги, наступая на чьи-то руки, я побежал по ходу сообщения, за мной — Свиридов, Кулагин, Симоненко, Черкасов. Над ходом сообщения просвистывали пулеметные очереди, где-то стучали «гочкпс» и «максим», поверху перекатывался бурый едкий дым. На левом фланге и в центре — разнобойное «ура». Ну, «ура» и мы крикнуть можем. Парторг Симонепко взмахивает автоматом:
— За Родину!
А где же замполит Трушин? В сутолоке рукопашной схватки растеряли друг друга. Только был бы жив! Ухнули взрывы. Саперы подорвали дзоты? А не тапки подорваны? Надо выбираться наверх. Разметав проволочные заграждения, проутюжив выносные окопы, они перемахнули траншею, пошли в глубь поселка. часть моих людей — с ними. Но и самому быть ближе к тапкам не худо.
Мы выкарабкались из хода сообщения, где он врубался во вторую линию траншей, и, пригибаясь, побежали к двухэтажному кирпичному здатпо, возле которого стоял танк и бил по окнам второго этажа. Увидел в воронке Трушина: живой! Машет пилоткой: жми сюда! Я плюхнулся в воронку рядам с ним. Выставив автоматы, открыли огонь по окопным проемам: там засели снайперы-смертники в белых рубашках и штанах, белое — цвет траура, пу и будет вам траур. Танковые снаряды кромсали здание, горели оконные рамы, красная кирпичная пыль висела кисеей.
Выстрелы, разрывы, треск, звон разбитого стекла. И еще гуще дым.
— Гляди, Петро!
Я посмотрел на Трушина, а потом туда, куда он ткнул пальцем. Меж битых кирпичей, комьев подкопченной глины и прижухлой травы полз японец — в белой одежде и с белой повязкой вокруг головы, на повязке иероглифы. Смертник! На спине мина, курс — к нашему танку. Мы повели огонь по нему. Смертник, извиваясь, полз и полз. Как заговоренный! Но метров за тридцать до тапка чья-то очередь достала: дернулся и замер, выбросив руки. А затем чья-то очередь угодила в мину. Рвануло — аж перепонки запыли. Смертника — в клочья. Лишь трава курилась там, где он только что лежал. Еще один смертник пополз к другому, слева, тапку. У него мина была на бамбуковом шесте: бросаться под днище самому не надо. Но автоматные очереди и его пригвоздили быстро. А мина на бамбуковом шесте так и осталась певзорвапная.
Ближний танк я узнал: макухипский, бортовой помер сто двадцать семь. Здравствуй, воюй благополучно! Да, баталия идет к концу. Танкам продвигаться уже пет надобности, пехота выкуривает остатки гарнизона из полуобвалившихся зданий, из полуразрушенных дзотов. Разведчики перекрыли дорогу, по которой можно было отступать из поселка, так что окружение.