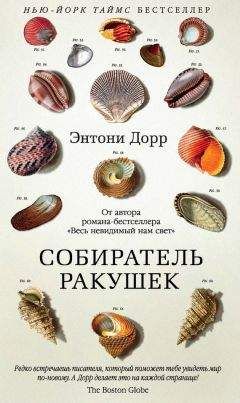Уже глубоко в ночи на востоке раздается гудок. Солдаты вокруг просыпаются. Вернер сбрасывает полудрему и садится. Нойман-второй уже на ногах. Он стоит, держа согнутые ладони одну над другой, — как будто пытается удержать в них шарик темноты.
Со стуком и лязгом сквозь темноту проносится поезд: сперва черный бронированный локомотив, выдыхающий толстый гейзер дыма и пара, потом несколько вагонов, бронеплощадка с пулеметом, за которым пригнулись двое пулеметчиков. Дальше — только открытые платформы с людьми. Они набиты так плотно, что люди вынуждены стоять — кто-то на ногах, бóльшая часть на коленях. Проезжают две платформы, три, четыре. Каждая спереди защищена от ветра чем-то вроде стены из мешков. Рельсы дрожат под тяжелым составом, тускло поблескивая в темноте. Девять платформ, десять, одиннадцать. Все полные. Мешки выглядят странно, как будто они вылеплены из серой глины.
Нойман-второй вскидывает подбородок и говорит:
— Пленные.
Вернер пытается различить отдельных людей, но платформы едут быстро, и он успевает схватить лишь отдельные детали: впалые щеки, плечо, блеснувший в темноте глаз. На них форма? Те, что впереди, сидят, привалившись к мешкам. Впечатление, будто это пугала и их везут на запад, чтобы поставить на каких-то чудовищных огородах.
Некоторые пленные спят.
Мимо проносится лицо, бледное и восковое, прижатое скулой к полу платформы.
Вернер ошалело моргает. Это не мешки. И не спящие. У каждой платформы впереди — стена из мертвецов.
Как только стало ясно, что поезд не остановится, солдаты вокруг улеглись обратно и закрыли глаза. Нойман-второй зевает. Платформа за платформой; человеческая река льется в ночи. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать… зачем считать? Сотни и сотни людей. Тысячи. Наконец в темноте мелькает последняя платформа, за ней еще один пулемет с расчетом из четырех или пяти человек, и вот уже поезд проехал.
Стук колес затихает. Над лесом вновь сгущается тишина. Где-то там Шульпфорта с ее темными башенками, мокрыми простынями, ночными вскриками и мальчишеской злобой. А еще дальше — ревущий левиафан Цольферайна, окна сиротского дома. Ютта.
— Они сидят на умерших товарищах? — спрашивает Вернер.
Нойман-второй сощуривает один глаз и наклоняет голову вбок, словно целится из винтовки вслед поезду.
— Пиф-паф, — говорит он.
В первые дни после смерти мадам Манек Этьен не выходит из своей комнаты. Мари-Лора представляет, как он сидит на кушетке, втянув голову в плечи, бормочет детские стишки и видит шастающих сквозь стены призраков. Тишина за его дверью такая, что Мари-Лоре страшно: не ушел ли он совсем в иной мир?
— Дядя? Этьен?
Мадам Бланшар сводила Мари-Лору в церковь Святого Викентия на отпевание мадам Манек. Мадам Фонтино наварила ей картофельного супа на неделю. Мадам Гибу принесла варенья. Мадам Рюэль как-то исхитрилась испечь песочный торт. Все они стараются не оставлять ее одну.
Час за часом падает высохшим листком. Каждый вечер Мари-Лора ставит перед дверью Этьена полную тарелку, а утром забирает пустую. Она стоит одна в комнате мадам Манек. Здесь пахнет мятой, восковыми свечами, шестью десятилетиями беззаветного служения. Горничная, нянька, мать, сообщница, советчица, шеф-повар — кем была мадам Манек для Этьена? Для них всех? На улице пьяно горланят немцы, паучок за кухонной плитой каждую ночь плетет новую паутину, а Мари-Лоре это вдвойне больно: все живут, как прежде, Земля и на миг не замедлила свой бег вокруг Солнца.
Бедное дитя.
Бедный мсье Леблан.
Как будто на них проклятье.
Если бы только сейчас в кухню вошел папа! Улыбнулся дамам, взял Мари-Лору за щеки! Пять минут с ним. Одна минута.
На пятый день Этьен выходит из комнаты. Лестница скрипит под его шагами, старухи на кухне умолкают. Он твердым голосом вежливо просит их уйти.
— Мне нужно было время для прощанья, но теперь я должен сам заботиться о себе и племяннице. Спасибо вам.
Как только дверь за ними закрывается, он задвигает щеколду и берет Мари-Лору за руки.
— Весь свет в доме погашен. Замечательно. Пожалуйста, отойди вот сюда.
Скрип сдвигаемых стульев. Потом стола. Звякает металлическое кольцо в центре пола. Открывается люк. Слышно, как дядя лезет вниз по лестнице.
— Дядя, что тебе там нужно?
— Вот это.
— Что это?
— Электропила.
Что-то теплое, яркое разгорается у нее в животе. Этьен идет вверх по лестнице, Мари-Лора за ним. Второй этаж, третий, четвертый, пятый, шестой, налево — в дедушкину комнату. Этьен открывает огромный платяной шкаф, вынимает старую одежду брата, кладет на кровать. Тянет удлинитель на площадку, потом говорит:
— Будет громко.
— Хорошо.
Этьен забирается в шкаф и включает пилу. Звук отдается в стенах, в половицах, в груди у Мари-Лоры. Она гадает, слышно ли на весь квартал и не думает ли сейчас какой-нибудь немец, что это за звук.
Этьен вынимает прямоугольный кусок из задней стенки шкафа, затем выпиливает такое же отверстие в чердачной двери. Выключает пилу, протискивается к лесенке и поднимается на чердак. Мари-Лора лезет следом за ним. Все утро Этьен ползает по полу с проводами, пассатижами и еще какими-то инструментами, которых пальцы Мари-Лоры не знают. Ей представляется, что дядя плетет вокруг себя какую-то сложную электронную паутину. Он бормочет себе под нос, несколько раз ходит на нижние этажи за толстыми инструкциями и запчастями. Чердачный пол скрипит, мухи чертят в воздухе ядовито-синие круги. Под вечер Мари-Лора спускается по лесенке и засыпает на дедушкиной кровати под звуки дядиной возни наверху.
Когда она просыпается, за окном щебечут ласточки, а через потолок льется музыка.
«Лунный свет», мелодия, от которой вспоминаешь листья на ветру и твердый мокрый песок под ногами. Музыка взмывает и возвращается на землю, а потом молодой голос давным-давно умершего дедушки Мари-Лоры начинает: «В человеческом теле, дети, девяносто шесть тысяч километров кровеносных сосудов! Ими можно было бы обмотать Землю почти два с половиной раза…»
Этьен спускается по лестнице из семи перекладин, протискивается в дыру и берет Мари-Лору за руки. Он еще не начал говорить, а она уже знает, что сейчас услышит.
— Твой папа велел мне тебя беречь.
— Знаю.
— Это будет опасно. Это не игра.
— Я хочу в этом участвовать! Мадам была бы…
— Расскажи, как все должно быть.
— Двадцать два шага по улице Воборель до улицы д’Эстре. Потом прямо до шестнадцатой канализационной решетки. Налево по улице Робера Сюркуфа. Девять канализационных решеток до булочной. Я подхожу к прилавку и говорю: «Один простой батон, пожалуйста».
— А что она ответит?
— Она удивится. Но я должна сказать: «Один простой батон, пожалуйста», а она: «Как поживает твой дядя?»
— Она спросит обо мне?
— Так она узнает, что ты готов помочь. Это все мадам придумала.
— А ты что скажешь?
— Я скажу: «Дядя здоров, спасибо». Возьму батон, положу в рюкзачок и пойду домой.
— И это сработает. Даже без мадам?
— Почему же нет?
— Как ты заплатишь?
— Продовольственным талоном.
— А они у нас есть?
— В ящике на кухне. И у нас ведь есть деньги?
— Да, есть. Как ты пойдешь домой?
— Просто пойду.
— Какой дорогой?
— Девять канализационных решеток по улице Робера Сюркуфа. Направо на улицу д’Эстре. Шестнадцать канализационных решеток до улицы Воборель. Я помню все наизусть. Я была в булочной триста раз.
— Никуда больше не заходи. Не заглядывай на пляж.
— Я пойду прямо домой.
— Обещаешь?
— Обещаю.
— Тогда вперед, Мари-Лора. Лети стрелой.
Они едут товарными поездами через Лодзь, Варшаву, Брест. Долгие километры в открытую дверь не видно ни единой живой души, только кое-где рядом с путями валяются опрокинутые вагоны, покореженные и обгорелые. На остановках входят и выходят солдаты, тощие, бледные. У каждого ранец, карабин, каска. Они спят, несмотря на грохот, несмотря на голод и холод, словно хотят как можно дольше не возвращаться в явь.
Бесконечные свинцовые равнины разделены рядами сосен. Солнце за тучами.
Нойман-второй просыпается, справляет в дверь малую нужду, достает жестянку и закидывает в рот еще две или три таблетки.
— Россия, — говорит он, хотя по каким признакам это ясно — Вернеру невдомек.
Воздух пахнет металлом.
Вечером поезд останавливается, и Нойман-второй ведет Вернера между рядами разрушенных домов, грудами обгорелых досок и кирпича. Немногие уцелевшие стены выщерблены черными линиями пулеметных очередей. Уже темно, когда Вернера сдают мускулистому капитану, который в одиночестве ужинает на диване из деревянной рамы и пружин. В жестяной миске у капитана на коленях исходит паром цилиндрик вареного серого мяса. Некоторое время офицер молча разглядывает Вернера. На лице не столько разочарование, сколько усталое, чуть ироничное удивление.