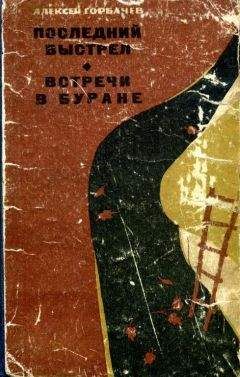— Перевоспитали мальчиков! — смеялась Фиалковская.
В больничном саду тихо-тихо листва шелестела. Будто о чем-то самом сокровенном шепотом разговаривали меж собой деревья.
— Почему вы не курите, Михаил Петрович? — спросила Фиалковская.
— Не научился.
— А мне хочется, чтобы вы закурили. Была бы идиллия: он дымит папироской, она сидит и ногами болтает... Знаете, иногда так хочется победокурить, а нельзя:человек все-таки солидный и единственный врач на селе... Бедокурящий врач, как белая ворона, всюду заметен... А у вас появляется иногда желание победокурить?
Михаил Петрович улыбнулся:
— Странная вы какая-то...
— Если говорят «странная», подразумевают — глупая.
— Я вкладываю другой смысл.
— Вот, вот, доктор Светов тоже вкладывает другой смысл — никудышная, говорит. — Фиалковская соскочила с перил, притворила больничную дверь, как будто боялась, что их кто-то подслушает, и с затаенной грустью продолжила: — Может быть, и в самом деле никудышная... Я здесь одна, совершенно одна, и не с кем порой посоветоваться, хотя нужно, очень нужно... Кончила институт и бросили меня сюда — лечи, дерзай... Будь я большим медицинским начальством, категорически запретила бы направлять неоперившихся птенцов-выпускников на самостоятельную работу в сельские больницы.
— Но согласитесь же, какая богатая практика для начинающего врача!
— А каково тем, кого он лечит, набивая руку? — спросила она. — Знаете, есть такой жестокий метод обучения плаванию: бросают не умеющего плавать в речку. Выбирайся, голубок, спасай самого себя, учись плавать. Выберешься — твое счастье, не выберешься — сам виноват... Да поймите вы, что я здесь постоянно чувствую, как мало помогаю больным! Пусть кладу их в больницу, лечить стараюсь. Они выписываются, благодарят, а я часто так и не знаю, чем же болел человек, чем помогла ему, и чаще всего утешаю себя словами отца нашей медицины Гиппократа: «Природа больного есть врач его, а врач только прислуживает природе». Вот и я — прислуживаю и думаю: да чем же я отличаюсь от какого-нибудь дореволюционного земского лекаря... По сути говоря, ничем!
— Ой нет, Лидия Николаевна, это вы слишком... Неподходящее сравнение, — возразил он. — Времена теперь не те...
— Во, во! — подхватила она. — Вы тоже, как Светов, начнете говорить о достижениях современной науки, о новых лечебных препаратах...
— Но достижения действительно есть, и новые препараты есть.
— Есть, да не про нашу честь! Что мне ваша наука, если практически я здесь, кроме допотопного фонендоскопа, ничего не имею?
— Вы, оказывается, нигилистка, — рассмеялся он.
— Вам хорошо смеяться, — еще более разгорячилась она. — Вы-то сами в большой городской больнице работаете, диссертацию защитили... А вы знаете, что такое глухая вьюжная ночь, когда тебя выхватывают из теплой постели и везут на розвальнях по сугробам да перевернут разика два-три, пока привезут к больному... Едешь и боишься, и молишь всех святых: «Боже мой, хотя бы не было ничего серьезного»... А вдруг нужна срочная операция? А вдруг нужно срочно вмешаться всеми средствами, которыми располагает нынешняя наука? У тебя же всего-навсего чемоданчик, а в чемоданчике — шприц, камфора, нашатырный спирт и валерьянка... Вам этого не понять, нет, нет, вы не побывали в моей шкуре...
— Можно подумать, что ко мне на прием люди обращаются только от нечего делать, — оскорбленно перебил он.
— Да что там у вас, — отмахнулась она. — У вас — консультанты, ассистенты, целый полк сестер и нянечек...
— Извините, я не думал, что вы из разряда людей, которые считают, что только они воюют, другие же по тылам отсиживаются и чаек попивают, — колко заметил он.
— Вот видите, вы уже рассердились, — улыбнулась она. — Мужчины вообще обидчивый народ, особенно ученые... Ладно уж, чтобы нам окончательно не разругаться, проводите меня до калитки...
У калитки они остановились.
— Наверно, поздно уже, — сказала Фиалковская. — У вас есть спички? Посветите, я никак не могу разглядеть, который час.
— У меня хорошее зрение, дайте посмотрю, сколько там набегало. — Он взял ее легкую, чуть холодноватую руку, поднес близко к глазам и при лунном свете стал всматриваться в крохотные круглые часики. От руки струился знакомый еле уловимый больничный запах, и почему-то эта рука пахла еще луговыми травами.
— До свидания, Михаил Петрович, — торопливо сказала она. — Не обижайтесь, такой уж у меня сварливый характер...
Он шел тихой сельской улицей, думал о Фиалковской и опять почему-то сравнивал ее с Тамарой... Конечно, Тамара красивей, заметней — всегда собранная, подтянутая, как на параде невест. Было приятно смотреть, когда она появлялась на экране телевизора. «Здравствуйте, товарищи телезрители, начинаем нашу программу», — говорила она, умело играя голосом и обворожительно улыбаясь.
— Я улыбалась только тебе, ты заметил? — при встречах спрашивала она и шутливо предупреждала: — Но учти, Миша, на телестудию потоком идут письма от моих поклонников. Да, да, пишут чудаки!
Эти поклонники почему-то мало трогали его, хотя Тамара нет-нет да и напомнит, письмо покажет с предложением руки и сердца, с просьбой о свидании... Быть может, она хотела расшевелить холодноватого доктора? Тамара не спорила с ним, иногда лишь ласково упрекала и очень беспокоилась о его диссертации. Она готова была ночи напролет сидеть за пишущей машинкой на телестудии, по нескольку раз перепечатывать исправленные им страницы. И сидела!
— Что бы я делал без тебя, — благодарно признавался он.
Тамара счастливо улыбалась.
— А что ты делаешь со мной? Я уж набила холодильник шампанским. Обмоем твою защиту.
— Рано еще...
— Я верю в тебя. Не беспокойся. Все будет хорошо!
Добрая, несварливая Тамара. Да разве можно сравнить с тобой бурановскую докторшу? Нет же, нет! Уж очень она дерзка, не лезет в карман за словом, не стесняется в выражениях, открыто клянет свою судьбу... «А можно ли осуждать ее?» — сурово спросил себя Михаил Петрович. Ведь она права: трудно ей одной, когда не с кем посоветоваться. У тебя вон — консультанты, ассистенты, у тебя такой кабинет, что хоть устраивай в нем танцы... А Лидия Николаевна и в тесноте, и в обиде... Тебе не приходилось ездить на розвальнях, за тобой приезжает комфортабельная санитарная машина с сиреной... Ты просто баловень судьбы.
Напротив Дома культуры, через улицу, стояло одноэтажное кирпичное здание, обнесенное невысоким крашеным забором из штакетника. Вдоль забора зеленой лентой тянулись уже густо разросшиеся, аккуратно подстриженные кусты акации.
На фронтоне крыльца виднелась большая вывеска: «Правление колхоза имени Чкалова». В широком длинноватом коридоре дома — крашеные двери с зеркальными табличками — «Главный агроном», «Главный зоотехник», «Секретарь парткома», «Бухгалтерия». Рядом с бухгалтерией — дверь, не похожая на другие, обитая коричневым дерматином и без таблички.
— Входи, Миша, это мой кабинет, — пригласил брат.
Сперва они вошли в небольшую комнату, где за столом с пишущей машинкой сидела молоденькая девушка-секретарь. Из этой комнаты вели направо и налево двери с табличками — «Председатель» и «Заместитель председателя». Все оборудовано, как в солидных приемных большого начальства.
— Мне звонили, Зиночка? — небрежно спросил председатель.
— Нет, Иван Петрович, не звонили, — бойко ответила секретарь.
Иван Петрович досадливо нахмурился. Михаилу Петровичу подумалось, что Ваня, видимо, был бы рад-радешенек, если бы ему сказали, что звонили оттуда-то и оттуда, что из-за этих звонков покоя нет...
Председательский кабинет был просторный, светлый, в нем два стола, расположенных буквой «Т», у стен — мягкий диван и шеренга стульев. На стене, над председательским креслом, висел портрет Мичурина, под портретом — умело вычерченная карта колхозных угодий.
— Богато, с комфортом живешь, председатель, — сказал Михаил Петрович.
Брат поудобней сел в кресло, ответил, улыбаясь:
— А ты как же думал. Прибедняться не в моем характере.
— Больницу разместить бы в таком здании, из твоего кабинета получилась бы хорошая операционная.
Брат расхохотался.
— Кому что, а курице просо...
В кабинет заглянула секретарь.
— Иван Петрович, к вам главный бухгалтер, — доложила она.
— Пусть войдет, — сановитым тоном разрешил председатель.
Игнат Кондратьевич вошел, поздоровался, разложил на столе бумаги для подписи, и пока Иван Петрович внимательно разглядывал и подписывал, старик расспрашивал доктора о рыбалке.
— Не клюет, говорите? Ишь ты, как оно, — сочувственно качал он седой головой. — Время-то как раз подходящее для клева, и погодка стоит славная... Вы, Михаил Петрович, все за огородами удочки забрасываете. Да какая ж там рыба? Рыбка тишину любит. Подальше от села надобно уходить, в луга. Там и сазанчика подцепить можно.. Водятся красавцы в Буранке нашей, водятся!