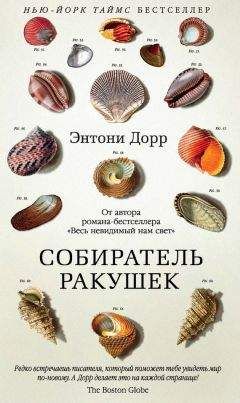Однако есть передатчик на чердаке. Искорка в ночи.
Из проулка доносится звук шагов. Этьен приоткрывает ставни в спальне Мари-Лоры, смотрит на шесть этажей вниз и видит в лунном свете призрак мадам Манек. Воробьи садятся в ее протянутую руку, и она одного за другим убирает их за пазуху.
Пиренеи сияют. Дырчатая луна сидит на их пиках, словно насаженная. В ее платиновом свете фельдфебель фон Румпель доехал на такси до комиссариата и теперь беседует с капитаном полиции, который то и дело подкручивает двумя пальцами роскошные усы.
Произошло ограбление в шале видного мецената, связанного с Парижским музеем естествознания. Французская полиция арестовала преступника; при задержании у него изъяли сумку с драгоценными камнями.
Проходит довольно много времени. Капитан разглядывает ногти на левой руке, потом на правой, потом снова на левой. Фон Румпель ждет. Сегодня он чувствует изрядную слабость, его мутит. Врачи сказали, что лечение закончено, осталось наблюдать, как поведет себя опухоль, но иногда по утрам он не в силах выпрямиться после того, как завязал шнурки.
Подъезжает автомобиль. Капитан выходит его встречать. Фон Румпель смотрит в окно.
Двое полицейских вытаскивают с заднего сиденья хлипкого мужчину в бежевом костюме. Под левым глазом у него лиловый фингал. Руки в наручниках. Воротник забрызган кровью. Всё как будто он только что играл злодея в кино. Полицейские ведут его в комиссариат, а капитан достает из багажника сумку.
Фон Румпель вынимает из кармана белые перчатки. Капитан закрывает дверь кабинета, кладет сумку на стол и опускает жалюзи. Наклоняет абажур настольной лампы. Где-то неподалеку захлопывается дверь камеры. Капитан достает из сумки телефонную книжку, стопку писем и дамскую пудреницу. Затем отрывает фальшивое дно и вытаскивает шесть бархатных свертков. Разворачивает их один за другим. В первом три роскошных берилла: розовых, толстых, шестигранных. Во втором — друза амазонита, бирюзового, с тонкими белыми прожилками. В третьем — алмаз грушевидной огранки.
По пальцам фон Румпеля пробегает дрожь. Капитан достает из кармана лупу; по лицу расплывается неприкрытая алчность. Он долго изучает алмаз, поворачивая его так и этак. Перед глазами фон Румпеля проплывают видения Фюрермузеума: колонны, сверкающие витрины, драгоценные камни под стеклом… И еще от камня исходит некая энергия, как бы слабый электрический ток. Шепчет ему, обещает уничтожить болезнь.
Наконец капитан опускает лупу — от нее вокруг глаза остался розовый вдавленный ободок. Влажные губы блестят в свете лампы. Он кладет алмаз обратно на полотенце.
Фон Румпель протягивает руку через стол. Вес правильный. Камень холодит пальцы даже через перчатку. Насыщенная голубизна по краям.
Верит ли он?
Дюпон почти разжег пламень в этом куске шпинели, однако в лупу видно: камень — точная копия того, который фон Румпель осматривал в музее два года назад. Он кладет подделку на стол.
У капитана вытягивается лицо.
— Но разве не надо, по крайней мере, посветить на него рентгеновскими лучами?
— Делайте что хотите, на здоровье. Письма я с вашего разрешения заберу.
К полуночи он уже в гостинице. Две подделки. Дело движется в нужную сторону. Два камня найдены, два предстоит найти, и один из них будет настоящим. На обед он заказывает мясо кабана с грибами. И целую бутылку бордо. В военное время особенно важно не опускаться. Именно такие вещи составляют разницу между цивилизованным человеком и варваром.
По пустому залу гуляют сквозняки, но официант вышколен безупречно. Он отточенным движением наливает вино и отходит. В бокале темное, как кровь, бордо кажется почти живым. Приятно сознавать, что больше никто в мире не оценит его вкус.
Декабрь сорок третьего. Между домами пролегли расщелины холода. Сухих дров не осталось, топят непросушенными, и весь город пропах дымом. По пути в булочную пятнадцатилетняя Мари-Лора продрогла до костей. В доме немногим лучше. Кажется, будто в комнате порхают редкие снежинки, залетевшие через щели в стенах.
Над головой слышны дядюшкины шаги и его голос: «Триста десять, тысяча четыреста шестьдесят семь, пятьсот семь, двадцать два — двадцать две, пятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят один», затем голубым туманом наплывает дедушкина мелодия — «Лунный свет».
Самолеты низко, лениво проплывают над городом. Иногда их рев раздается так близко, что Мари-Лоре страшно, как бы они не задели крыши, не снесли брюхом дымовые трубы. Однако нет: самолеты не врезаются в дома, взрывов не слышно. Ничто не меняется за единственным исключением: Мари-Лора растет. Она уже не влезает в одежду, которую папа три года назад сложил в рюкзак. Туфли жмут; теперь она носит домашние шлепанцы Этьена, старые, с кисточками, на три пары носков.
Ходят слухи, что в Сен-Мало позволят остаться лишь обслуживающему персоналу и тем, кто не может покинуть город по медицинским показаниям.
— Мы не уедем, — говорит Этьен. — Особенно теперь, когда от нас наконец-то есть хоть какая-то польза. Если врач не выпишет справки, дадим взятку.
Какую-то часть дня удается скоротать в зыбких воспоминаниях о видимом мире до того, как ей исполнилось шесть. Тогда Париж был огромной кухней: пирамиды моркови и капустных кочанов, кондитерские прилавки с пирожными, рыбины, словно уложенные в штабель бревна, серебристая чешуя в канавах, алебастровые чайки пикируют на груды рыбьих кишок. Каждый уголок был пересыщен цветом: зелень порея, фиолетовый глянец баклажанов.
Теперь весь мир стал серым. Серые лица, серая тишина, серый страх над очередью в булочной. Единственное цветное пятнышко вспыхивает, когда Этьен, хрустя коленями, поднимается на чердак зачитать в эфир очередную цепочку чисел, отправить сообщения мадам Рюэль и включить музыку. Пять минут чердак лучится малиновым, бирюзовым, золотым светом, затем радио умолкает, вновь наплывает серость, а дядя тяжело спускается по лестнице.
Может, он подхватил заразу на какой-нибудь безымянной украинской кухне, может, партизаны отравили воду, может, Вернер просто слишком много сидел в сырости. Так или иначе, у него температура и жуткий понос. На корточках позади «опеля», скрючившись от боли, Вернер чувствует, как с бурой жижей из него выходят последние остатки человеческого. Иногда он часами не может шевельнуться, только прижимается щекой к борту грузовика, ища чего-нибудь холодного. Потом начинается озноб, когда ничего не согревает и хочется прыгнуть в огонь.
Фолькхаймер предлагает кофе, Нойман-второй — таблетки, про которые Вернер уже знает, что они не от поясницы. Он отказывается и от того и от другого, и тысяча девятьсот сорок третий становится сорок четвертым. Вернер не писал Ютте почти год. Последнее письмо пришло от нее шесть месяцев назад и начиналось словами: «Почему ты не пишешь?»
И все же он продолжает отыскивать подпольные рации, штуки по две в месяц. Забирает убогое советское оборудование, из плохой стали, спаянное на скорую руку. Как можно воевать с такой техникой? Вернеру представлялось, что у партизан железная дисциплина, решительные и опасные вожаки, мощная организация. Однако, судя по тому, что он видит своими глазами, — это жалкие одиночки, оборванные и грязные. Они прячутся по норам и действуют на свой страх и риск.
Вернер уже отчаялся понять, какая из теорий ближе к истине. Потому что все вокруг, все до единого, — партизаны, подпольщики. Каждый желает немцам смерти, даже те, кто перед ними заискивает. Когда грузовик въезжает в город, люди прячут глаза, прячут своих детей. Их магазины завалены обувью, снятой с мертвецов.
Только посмотри на них.
В самые страшные дни этой неумолимой зимы, когда немцы отступают, а ржавчина точит грузовик, винтовки, приборы, у Вернера остается лишь одно чувство — брезгливое отвращение к людям, которых он видит снаружи. Дымящиеся разрушенные деревни, битый кирпич на улицах, замерзшие трупы, покореженные машины, лающие собаки, крысы — как можно так жить? Мы должны повсюду выкорчевывать беспорядок. Общая энтропия системы, объяснял доктор Гауптман, может уменьшиться лишь за счет увеличения энтропии другой системы. Природа требует симметрии. Ordnung muss sein[36].
Однако что за порядок они наводят? Чемоданы, очереди, орущие дети, солдаты, у которых в глазах застыла вечность, — в какой системе увеличивается порядок? Определенно не в Киеве, Львове или Варшаве. Здесь ад. И люди. Много людей, словно русские заводы штампуют по человеку в минуту. Убейте тысячу, мы изготовим десять тысяч.
Февраль застает их в горах. Нойман-первый медленно едет вниз по серпантину, Вернер дрожит в кузове. Внизу бесконечная сеть окопов, немецкие позиции с одной стороны, русские — с другой. По долине лентами плывет дым, пламя взлетает над орудиями, словно бадминтонные воланчики.