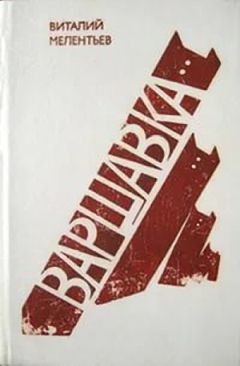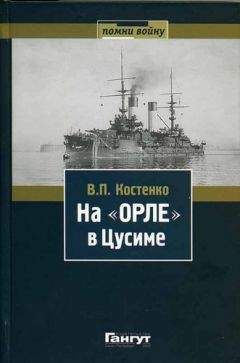Надо же, как подействовало введение офицерских званий на бывших нестроевых: все сразу почувствовали себя офицерами и сделали соответствующие выводы — усилили самоуважение и потребовали уважения от других к своему новому прекрасному званию, а следовательно, и к себе персонально, А вот личной ответственности еще не поднабрались…
Ему опять вспомнился вечер в зобовской землянке и милая речь фельдшерицы — она, помнится, подчеркивала, что новая, уже офицерская, форма красива, а само звание потребует воспитанности и культуры. А вот насчет того, как эта новая форма и новые офицерские звания повлияют на ход войны — не вспомнила. И что это новое потребует от самого офицера — тоже как-то обошла стороной.
— И я вполне серьезно. Где будет наибольшее количество раненых и где понадобитесь вы и ваши средства усиления, знать надлежит вам, и я потребую от вас и этих знаний, и действий, вытекающих из этих знаний.
Она никогда не видела его таким жестким. Ведь до сих пор она, единственная женщинакомандир в батальоне, привыкла к некоей почтительности, атмосфере полувлюбленности и потому могла позволять себе отступления от традиций, уставов и приказов. И она могла не допускать вот такого жесткого тона. А сейчас, когда ко всему прошлому прибавилось еще и звание, уравнивающее ее со строевыми командирами, она решительно не понимала капитана и оскорбилась еще больше. Ее огромные глазищи гневно пылали, полные губы сжались почти в ниточку. Басин уловил ее состояние и решил раз и навсегда поставить ее на свое, определенное службой, место:
— И еще, товарищ лейтенант медицинской службы… Вы знали, что у Зобова есть жена и дочь?
— Это к делу не относятся, — ответила она.
— Нет, относится… Здесь, — он повел рукой, — все ко всему относится. Так вот — знали или нет?
— Знала, знала! И вы должны знать, что и у меня есть муж… И это наше и только наше личное дело. А Зобов тем н хорош, что он не притворяется, не скрывает ни семьи, ни чувств, как некоторые… Вам все понятно, товарищ капитан?
— Да, — кивнул Басин. — Мне все понятно. Этот интимный разговор мы продолжим после боя. А сейчас действуйте. В строгом соответствии с моим приказом… когда он последует. У меня все. Идите!
Она смотрела на него возмущенно и непонимающе, потом резко вскинула руку к ушанке и круто повернулась.
"Некстати напомнил, — подумал Басин. — Надо было после боя…" Мелькнула еще какая-то мысль, по там, где должны были пробираться в тыл врага снайперы и разведчики, грохнула серия минных разрывов. Он прислушался, ожидая новой серии, и с этого мгновения все, что еще связывало его с обороной и определяемым ею образом жизни, мыслями, переживаниями, все ушло, и он стал жить только предстоящим боем, наступлением.
Семеро разведчиков и пятеро снайперов сгрудились в просторной землянке у переднего края, ожидая возвращения саперов, которые разминировали проходы в своих н вражеских минных полях, подрезали проволочные заграждения. Непривычные к ночным бдениям, разморенные теплом натопленной землянки, ребята приткнулись на нарах и стали посапывать. Командир группы разведки, старший сержант, плотный, коренастый, с грубым, решительным лицом и жестко сомкнутыми губами, посматривал на Костю несколько свысока, как человек, который знает цену и себе и своим вынужденным напарникам. И эта вторая цена его явно не устраивала, впрочем, как и вся затея начальства: брать «языка» перед наступлением и посылать в тыл снайперов? Кому это нужно? Что оно даст? Силой немца ломить нужно, силой! А не придумывать разные штучки-дрючки. Но впрямую старший сержант об этом не говорил, — и потому, что привык разговаривать мало, я потому, что рядом сидел и откровенно нервничал помощник начальника штаба полка по разведке — ПНШ-2 — сутулый старший лейтенант.
Жилин и во время организации взаимодействия обеих групп не проникся особым уважением к старшему сержанту, и сейчас, перехватывая его высокомерные взгляды, в душе посмеивался и немного побаивался: Черт его знает, как поведет себя в бою этот угловатый крепыш из кемеровских шахтеров. Жилин разговаривал со старшим лейтенантом, которому не слишком нравилась затея капитана Басина, и потому отвечал он Жилину скупо и отрывисто. Но Жилин словно не замечал этой неприязни и выспрашивал, по каким тропкам ходят фашисты и на передовой и в тылу и есть ли у них там минные поля. Старший лейтенант тыкал пальцем в карту, считая, что снайпер будет разбираться в ней долго и неточно. Но Костя разбирался хорошо — в полковой школе их учили на совесть — и опять задавал вопросы, от которых старшему лейтенанту становилось не по себе. Оказывалось, что знал он далеко не все из того, что знал Жилин, постоянно наблюдавший за противником и выспрашивавший о его поведении у своих многочисленных друзей на передовой.
Костя подумал, что никакой разведчик на настоящей войне не может знать о противнике все на свете. Война — как жизнь, но особого свойства, и в ней, как в жизни, обстоятельства могут меняться мгновенно…
Они примолкли, и в эту невеселую тишину ворвались саперы. От нечеловеческого напряжения — ползать под самым носом у врага, под проходящими над спиной пулеметными очередями, и делать самую страшную на свете работу — снимать мины, установленные еще летом, а сейчас, зимой, намертво вмерзшие, заржавелые и, по сути, неизвлекаемые, — от такой работенки нервы были натянуты до предела.
Шумное дыхание саперов, их простуженно-громкие голоса, резкие движения людей, ушедших от смерти, возмутили старшего лейтенанта:
— Потише можно? Не в кабак пришли!
Кто-то, невидимый в сумерках, обозленно ответил:
— А ты его видел, кабак? Видел?
Старший из саперов сдержанно сказал:
— Ну, ладно вам, ребята… Разведчики спят…
Разведчики есть разведчики, и саперы примолкли, разговаривая вполголоса. Старший приблизился к столу, и Жилин узнал Глазкова, с которым они вместе отдыхали в доме отдыха. Глазков небрежно козырнул.
— Проходы проделаны, товарищ старший лейтенант, но ползти нужно осторожно: проволока сталистая, видно, французская или чешская, звенит здорово. Вправо-влево от нашей тропки не лазьте — минное поле старое, может, чего и не обнаружили: щупы не берут, грунт мерзлый, а руками не все нашаришь. И еще…
Старший сержант грубо перебил:
— Еще какую радость сообщишь?
Глазков неторопливо огляделся, понял, что старшим лейтенант в данном случае лишь наблюдающий, а главный — старший сержант, и с легкой насмешкой сказал:
— Опять шумишь, Санька. Ты слушай, когда говорят. И еще в дзоте, что как раз на урезе лощинки, фрицев много, а огня не ведут. Поостерегитесь.
— Греются, вот и не стреляют.
— Ты всегда все знаешь, — махнул рукой Глазков. — У меня все.
Ему никто не ответил, и тогда Глазков протянул руку Жилину:
— Здорово, казачок. Ночью решил поохотиться?
И хотя Глазков вел себя независимо, да он и мог вести себя именно так — приказ он получал от своего, саперного начальства, — армейская, вошедшая в кровь этика не позволяла им обоим радоваться встрече на виду у офицера. Они отошли в дальний угол, присели на корточки и стали закуривать.
— Достается? — сочувственно спросил Костя.
Глазков на мгновение задумался, прикурил, а уж потом ответил:
— Да как тебе сказать… Если с умом, так терпимо. — Он примолк, словно ожидая Костиного вопроса, но Жилин промолчал, с острым интересом разглядывая того, кто только что прорвался между, казалось бы, неминуемыми — сверху и снизу — смертями и все-таки был по-прежнему спокоен н доброжелателен. — Я тебе так скажу, казачок…
Нету у меня теперь не то что страху, а даже уважения к немцу. Раньше я видел и на своей спине чувствовал: силен, бродяга. Умен. И — хитер. О храбрости и дисциплине и не говорю — они и сейчас есть. А теперь что получается? Полтора года воюем, хоть бы какую новую мину придумал, хоть бы систему минирования сменил, нет — все как было.
А ведь полтора года! У нас за это время и глупостей было сколько, так и новинок сколько.
Мы теперь по шаблону минируем. Хитрый шаблон — системы вроде нет, а как ни ходи, а все равно на мину напорешься. Так же со стрельбой у него — день-два послушал, как и откуда строчит, так и знай: еще долго оттуда же и с теми же перерывами строчить будет.
Так что если с умом приспосабливаться, воевать уже можно. Терпимо… — Они помолчали, и Глазков спросил:
— А ты как думаешь?
— Да примерно так же… Воевать уже можно, только надо бы лучше. — Опять помолчали, стараясь не касаться главного, чего Костя, кажется, еще не мог рассказывать, а догадливому Глазкову очень хотелось выведать. Костя все-таки не выдержал — ему идти, а сапер оттуда. И он спросил:
— А как у него… за передком?