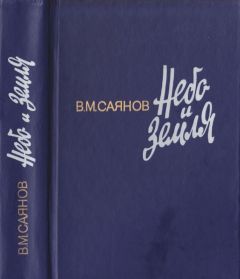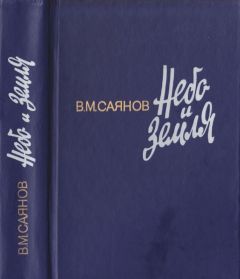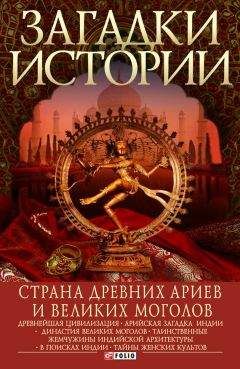Теперь даже выражение лица у Никоса изменилось. Тонкие морщинки избороздили щеки и лоб, а глаза в черных кругах от бессонницы и усталости часто смотрели в пространство не из-за рассеянности или душевного оцепенения, а потому, что голова его разламывалась от бесконечных дум и уставший мозг нуждался в отдыхе…
Двести рабочих продолжали медленно шагать по шумным улицам города.
Никос шел рядом с дядей Костасом. За последние годы Никос возмужал, раздался в груди и плечах, хотя в юности он, как брат и старшая сестра, больше походил своим телосложением на мать. Теперь облысевший, сгорбившийся дядя Костас казался рядом с ним сморщенным старичком.
Прошло почти четверть часа, а Никос и старый мастер не обменялись ни словом. Никос не стеснялся, как прежде, делиться с дядей Костасом своими мыслями; робость, свойственная ему в годы юности, исчезла. Но хотя молчание действовало угнетающе, Никос предпочитал, закусив нижнюю губу — эта привычка у него до сих пор сохранилась, — упорно смотреть на прохожих. Вдруг он почувствовал, как дядя Костас крепко сжал ему руку.
— Черт возьми, Никос, куда мы идем?
Он давно уже ждал этого вопроса, но сейчас, услышав его, возмутился и на мгновение растерялся. В словах дяди Костаса будто выразился его собственный страх. Никос понимал, что на него падает главная ответственность за то, что на заводе вспыхнула забастовка. Но он ни в коем случае не согласился бы с тем, что при существующих условиях объявление забастовки было роковой ошибкой. Рабочие потерпели поражение, полиции удалось захватить профсоюзный комитет. С каждым днем количество штрейкбрехеров росло, а он, Никос, продолжал проводить ожесточенную лобовую атаку, не обращая внимания на жертвы. Может быть, это было ошибкой? Он предпочел дать власть лютой ненависти к тем, кто струсил и бросил борьбу, к тем, кто поддался обещаниям хозяев или отступил перед угрозами полиции. Он предпочел с закрытыми глазами следовать по пути, ведущему к гибели, лишь бы не признаться себе в поражении. Он боялся, что душевные муки сломят его окончательно.
Никос подождал, пока дядя Костас более решительно повторил свой вопрос, и только тогда резко бросил:
— Что ты хочешь этим сказать?
— Довольно упрямиться. Обернись, погляди, сколько людей осталось, — спокойно проговорил старый мастер.
Странный человек был этот дядя Костас. То отделывался шуточками, то в боевом задоре не знал удержу.
Гневным взглядом Никос смотрел на лысую голову старика. Сколько раз была она у него перед глазами, когда мастер, наклонившись, разбирал машины. Но никогда еще не казалась она ему такой отвратительной и ненавистной, как сейчас.
— Лучше замолчи. Стоит обстановке усложниться, как ты уже готов в штаны наложить, — выпалил он ему прямо в лицо.
Дядя Костас растерялся, — он не ожидал услышать от Никоса такое.
— Зачем ты так говоришь? К чему растравляешь старые раны у людей, которые снова нашли свой путь? — мрачно сказал он и отошел от Никоса, вытирая рукой пот с лица.
Никос почувствовал угрызения совести, но взял себя в руки и даже не взглянул в сторону мастера.
Рабочие добрались уже до центра города. Они шли отдельными группами, смешавшись с уличной толпой. «Куда мы идем?» — спрашивал себя Никос, и вопрос его тонул в равнодушном гуле города, который, нарастая с каждой минутой, преследовал его как кошмар. Чем дальше, тем больше осложнялось положение. Но вместо того, чтобы сообща разобраться в обстановке и спокойно распутать этот клубок, Никос упрямо дергал за кончик нитку, и узел все крепче затягивался.
Перед министерством рабочие остановились и выбрали делегацию из пяти человек. Но ее не пропустили в здание.
Вдруг Никос увидел, что люди плотным кольцом окружили его. Все глаза были прикованы к нему. И среди всеобщего молчания его слуха коснулся страдальческий голос, исходивший точно из недр земли: «Вас была целая армия, а осталась лишь горстка героев». Этот голос звучал не смолкая, все более решительно и настойчиво.
Никос вытер рукавом крупные капли пота, выступившие у него на лбу, и сжал ладонями виски. Затем, овладев собой, он выпрямился и высоко поднял голову. Глаза его сверкали слепой яростью и упрямством.
— Товарищи! — начал он хриплым и резким голосом. — Наш профсоюзный комитет в руках полиции. Нас избивают, сажают в тюрьмы, стремятся нас уничтожить. Многие сдались, отступили от борьбы. Но что ни делается, все к лучшему: нам не нужны трусы, те, кто оберегает свой жалкий покой, дураки, попавшиеся на удочку продажных агентов, подсылаемых хозяевами… Мы никогда не склоним головы… На нашей стороне правда…
Его речь несколько воодушевила людей, столпившихся у дверей министерства. Со всех сторон понеслись негодующие крики.
Но тут полицейские, выстроившиеся на углу, с дубинками набросились на забастовщиков. Под их натиском рабочие рассыпались в разные стороны, но Никосу с помощью нескольких товарищей удалось собрать их на той же улице, подальше от министерства. После схватки с полицией у многих оказалась разорвана одежда, руки и лица в крови.
Они снова шли по городу. Ряды их значительно поредели. Никто не знал, куда они идут. Подошвы грубых башмаков отпечатывались на асфальте. На улицах становилось все оживленней. Проносившиеся мимо автобусы, трамваи, машины, снующие пешеходы — все сливалось воедино и, точно густой пчелиный рой, устремлялось на медленно шагавших рабочих. Возле профсоюзного комитета на них опять напали полицейские; многих забастовщиков арестовали, кое-кто успел скрыться. На завод вернулись всего лишь семьдесят мужчин и десять женщин.
Перед заводоуправлением раскинулась довольно большая лужайка, доходившая до речки, на другом берегу которой начинались дома рабочего предместья. То тут, то там на лужайке пробивалась молодая травка, голая земля была влажной от зимних дождей. Рабочие видели ребятишек, бегавших по грязной дороге на том берегу, женщин, стоявших в своих двориках и наблюдавших за тем, что происходит перед заводоуправлением. И теперь на лужайке, вблизи своего родного квартала, рабочие почувствовали себя спокойней, уверенней. Столпившись у ограды, они смотрели на заводские окна и ждали.
Маноглу из окна своего кабинета глядел на горстку забастовщиков, маячивших на лужайке. Он хотел улыбнуться довольной улыбкой, но после легкого удара, который случился с ним прошлой зимой, губы у него складывались лишь в жалкую гримасу, которая не передавала его настроений, выражая всегда страдание. Он одряхлел и с трудом передвигался, опираясь на трость. Но ни на день не покидал он своего завода.
Иногда, особенно в сумерки, он смотрел в окно на высокие заводские корпуса, представлял себе, как выглядят цеха, машины, и мысленно обходил свои владения. Он сам точно превратился в привидение, в тень человека, который, расставшись с детскими мечтами, удалился от людской суеты и отказался от маленьких радостей, твердых моральных устоев, идеалов, чтобы обрести иллюзию могущества.
Он был всего лишь игроком и ночью, страдая от бессонницы, старался убедить себя, что все поставил на карту. Но мучительные раздумья не давали ему ни на секунду покоя. Особенно донимали они его в минуты недомогания. Его любовница, высокая молодая женщина с длинными платиновыми волосами, от которой исходил всегда запах крепких духов, придя на свидание, ласково трепала его по щеке и уходила. После перенесенной болезни врач запретил Маноглу иметь дело с женщинами, а он берег свою жизнь и боялся смерти. Когда красотка подходила к нему, он не мог отказать себе в небольшом удовольствии: он привлекал ее к себе и поглаживал по спине. Красотка тем временем болтала, гляделась в зеркальце, старалась ничем его не возбуждать, вела себя совсем иначе, чем прежде.
После ее ухода на Маноглу находила сонная одурь. В памяти его всплывали давно забытые картины прошлого. Его лицо, напоминавшее мертвую маску, никогда и прежде не выдавало страстной любви, которую он питал к жене. Закрыв глаза руками, он старался прогнать мучительные воспоминания…
Несмотря на донимавшую его одышку и давящую боль в сердце, ему приходилось целыми днями обхаживать капризных американцев, всячески угождать им. А зачем? Почему не мог он хотя бы теперь, больной и разбитый, выбраться из пропасти, куда он катился?
Итак, Маноглу каждый день приезжал на завод. Сохранив ясную голову, он руководил своим предприятием, аккуратно принимал лекарства, прописанные ему врачом, а по вторникам, четвергам и субботам поглаживал по спине свою любовницу.
Но справляться с рабочими стало теперь гораздо труднее. Они были для Маноглу чуждой, враждебной массой, всегда таящей опасность. После оккупации он вынужден был коренным образом изменить тон обращения с ними. Улыбкой встречал он членов рабочих комиссий, угощал их сигаретами, говорил давно приевшиеся любезные слова. Рабочих он боялся и ненавидел. Маноглу понимал, что все дело его жизни висит на ниточке. Если бы забастовка разразилась годом раньше, она погубила бы его. Но за это время иностранцы успели снабдить власть имущих надежным оружием.