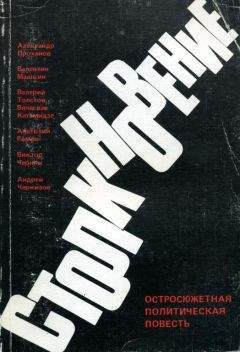— Люди! — Мулельге сложил руки над головой крест-накрест. — Люди, тише! Прежде всего, если есть те, кто уже работал и был уволен… Заният, я вижу тебя, выйди… Отойди влево… Вот сюда, встань сюда… И ты, Мулонга… Зульфикар… Выходите, выходите, встаньте в стороне… Вы останьтесь… Люди, спокойней!
Ноздри молоденькой африканки раздувались. Ей около шестнадцати.
— Как тебя зовут? — спросил Кронго.
— Амалия. — Африканка улыбнулась, будто ждала этого вопроса. Глаза ее поплыли вбок, застыли, вернулись к Кронго. Зрачки блестели. В ней была просыпающаяся женственность — свежая, чувственная, и она сейчас не скрывала этого.
— Зачем ты пришла? Ты что-нибудь умеешь?
— Я хочу быть жокеем.
— Сидела когда-нибудь на лошади?
— Три года, месси. — Зубы ее, когда она открывала рот, чуть поблескивали от обильной слюны. — Я работала уборщицей. В цирке. Сидела на пони, лошадях. Я могу показать… Работала батут…
Кронго медлил, прежде чем что-то сказать. Цирк, пони, лошади. Откуда только не пришли сюда все они! Она легкая, не больше пятидесяти килограммов. Какая разница, женщина или мужчина. Все-таки сидела. Из старых наберется не больше десяти. На две конюшни, беговую и скаковую. Но ему нужно десять наездников и десять жокеев. И по крайней мере очень легких, пусть даже не умеющих сидеть. Там, у демонстрационной доски, у финишного створа, все чисто. Значит, кто-то уже убрал тех, убитых. Но кто именно убрал? Солдаты?
— Хорошо, отойди в сторону.
Амалия улыбнулась. Покосилась на берберов, закрыла глаза.
— Месси, я работал на ферме, — сказал бербер.
Мулельге отодвинул тех, кто слишком выдвинулся вперед, пошел вдоль строя.
— Каждый, кто знает лошадей! Каждый, кто знает лошадей… Кто ездил верхом? Кто умеет сидеть в коляске?
Толпа молчала.
— Ну? Кто-нибудь ездил верхом? В коляске?
— Начальник, начальник, — из задних рядов пробился молодой мулат с бородкой клинышком, — зачем обижаешь? Проскочу, лошадь ногами удержу, деньги получу. Верно, ребята? Ну что молчите?
Один из берберов усмехнулся. Мулельге хмуро оглядел мулата, кивнул. Ассоло подвел Бету. Мулат взял поводья, легко вскочил в седло. Бета, почувствовав руку, вздрогнула, загрызла удила.
— Давать на дорожку? — улыбнулся мулат.
Бербер поднял руку, и мулат нехотя слез.
— Ха… — Бербер лег грудью на круп. Не дотрагиваясь до поводьев, мгновенно очутился в седле. Повис на одной ноге, дотянулся до уздечки. Приник к лошадиной шее. Бета закружилась, взметывая копытами песок. Старая лошадь крутилась, как жеребенок, быстро перебирая ногами. Белый плащ бербера слился с крупом.
— Ха!
Бета остановилась как вкопанная. Ноздри ее дрожали. Глаза нашли глаза Кронго. Бербер тоже следил за его глазами. Бербер может только чувствовать лошадь, но не понимать. То, что затеял он, Кронго, не так безнадежно. Еще хотя бы человек шесть. Он объяснит им, он будет следить.
Бербер слез. Бета потянулась губами к Кронго.
— Это скаковая английская лошадь. — Кронго легко отстранил переносицу Беты. — Никогда больше не ущемляйте у нее сухожилия. Запомните.
— Берем обоих. Отойдите в сторону. — Мулельге не обращал внимания на сложенные руки.
— Кто еще умеет сидеть на лошади?
Седой манданке по-прежнему смотрел на Кронго. В этом взгляде было понимание, что его не возьмут.
— Не боитесь грязной работы?
Манданке вздрогнул. Поклонился. Мулельге похлопал его по плечу.
— Отойдите, мы вас берем. Кто еще умеет на лошади?
Кронго заметил взгляд, теперь в эту сторону смотрел и Мулельге.
— Вы знаете лошадей?
Человек был худ, одет по-европейски, кожа матово-серая, как у жителя центральных районов. Но изогнутый крючком нос. Тонкие длинные пальцы.
— Местный?
Негр, щурясь, разглядывал что-то в небе.
— Городской?
— Городской, Жан-Ришар Бланш. — Негр широко улыбнулся. Он явно говорил на парижском арго.
— Сядете на лошадь?
Странная, деланная улыбка. Но что-то в нем есть.
— Попробую. — Бланш долго, как слепой, ощупывал и мял поводья. Он явно держал их первый раз в жизни. Положил руку на холку, попытался вскочить. Не получилось. Бланш с трудом удержал Бету за шею, примерился снова. Наконец вскочил, еле-еле удержался. Он был худ, костляв. Бета переступала ногами, дергала головой.
— Вы хотите работать жокеем?
— Кем назначите. — Бланш говорил в такт движениям. — У меня нет работы. Есть диплом. Мне не на что жить. Я люблю лошадей.
Он пытался во что бы то ни стало удержаться. Улыбка, манера глядеть, наглая и застенчивая, по-прежнему не нравились Кронго.
— Хорошо. Мы берем вас. Мулельге, помогите ему.
Уцепившись за Мулельге, негр сполз вниз. Прихрамывая, пошел к остальным.
— Мулельге… Наберите рабочих на конюшни, на свое усмотрение…
Но ведь кто-то из них будет работать на Крейсса. А кто-то — на Фронт. Но это не имеет значения. Он не должен думать об этом.
Он сам не заметил, как прошло время. Он сидел и думал о том, что целая неделя позади. Целая неделя. Кажется, все вошло в колею. Старуха что-то жарила на кухне. Крикнула:
— Садитесь на веранде, месси… Мадам спит, я ее накормила… Садитесь на веранде, я сейчас подам…
Свет из гостиной хорошо освещает каменный пол веранды, стулья с фанерными сиденьями, плетеное кресло, стол из камыша. Внизу у берега слышится рассыпающаяся волна. Звук ее медленно расходится вширь, становится тише, глуше, затихает, переходя в слабый хриплый рокот. Кронго вдруг с удивлением вспомнил, что не знает, на какие деньги сейчас живет. Правда, он и раньше не особенно вникал в это, его денежными делами занималась Филаб. До тридцати лет он жил вместе с отцом, а до двадцати — привык не думать о деньгах, у него всегда были еда, одежда, все переезды оплачивали дирекция или фирма. Потом он начал играть. Кронго знал, что жокеи играют, но его отец не играл, он был суеверным.
Кронго хорошо помнит ощущение первого выигрыша. Бесстрастные пальцы кассирши легко отсчитали толстую пачку денег. Выигрыш был большим, Кронго ставил на темную лошадь. Странно — от того, что появилось много денег, он не ощутил удовольствия. Вечером отдал половину выигрыша отцу, и тот странно улыбнулся. Но деньги взял, только предупредил, чтобы Кронго больше не играл. «Ты потеряешь чувство лошади, слышишь, сын!» Но Кронго продолжал играть, и всегда на темных. Он знал наизусть все конюшни. Несколько раз он ставил на себя. Правда, против себя на фаворите не играл ни разу. Это были странные дни — шумные, выматывающие. Это был Париж, но сейчас Кронго даже не может вспомнить имена тех, с кем проводил время. Но он же проводил время… Помнит красивую иностранку, венгерку. Ему казалось, что он любит ее, она плохо знала язык, и утром, просыпаясь, он всегда видел ее немую улыбку. Он жил тогда в гостинице. Потом, когда слова отца сбылись, Кронго понял, что в самом деле нельзя играть. Он отстал на полкорпуса. Он до сих пор помнит эту скачку, чувство отчаяния, охватившее его. Отец молча улыбался, помогая слезть. Дело было не в проигрыше, а в том, что он в самом деле перестал чувствовать лошадь. Правилу не играть он изменил только дважды — когда умер отец и потом здесь, с Филаб, чтобы откупиться от фирмы.
— Рыба, месси… Очень вкусная рыба… — Фелиция осторожно опустила тарелку.
Почему он вспомнил об игре. Из-за денег?
— Фелиция, где вы достаете еду?
Глаза негритянки убегают от его взгляда.
— Вы покупаете на свои деньги?
Она молчит. Шумят кусты.
— Что же вы молчите, Фелиция?
— Деньги отменены, месси, магазины берут только доллары и боны… Вы ешьте, не думайте об этом…
Рыба была сладковато-соленой, она мягко расползалась на языке.
— Запишите все ваши траты… Я вам отдам.
— Как не стыдно, месси…
Мысль его с трудом пробивалась сквозь подступившую сытость. Он должен работать, работать, иначе все пропадет. Но об этом уже нет сил думать. Целый день — осмотр молодняка, прикидка, обход, набор людей… Он должен встать завтра в три. Он должен работать до исступления, а сейчас лечь, провалиться… Внизу ворочаются волны. Лечь…
— Я разбужу вас, месси… Идите спать…
Лежа у себя в комнате, Кронго слышал шум волн, но этот шум уже становился не шумом, а чем-то беззвучным, неосязаемым. Кронго услышал шум волн и понял, что вокруг сумерки. Он понял, что уже не спит. Несколько секунд лежал, пытаясь привыкнуть. Обычно он спускался вниз, бросался в волны. Плотное соленое объятие всегда отгоняло сон.
Еще не проснувшись, Кронго сунул ноги в шлепанцы. Сквозь темную гостиную прошел в ванную. Нащупал кран. Вода падала на шею, затекала на спину, трогала живот.
Он подумал о том, о чем часто думал с усмешкой, — о своей профессии. Странная, не производящая ничего. Лошадей давно уже не воспитывают для работы. Он подставил ладонь, отводя струю в сторону, так, чтобы она попадала на затылок. Ради чего нужны быстрый бег лошади и все связанное с этим бегом? Ведь ради этого он рожден, он, Кронго, появился на свет, специально приспособленный только для этой цели. Он должен воспитывать этот бег, и этих лошадей, и в этом его счастье. Но цель эта призрачна, неясна. Быстрота движения лошади, ее резвость существуют лишь ради нескольких мгновений.