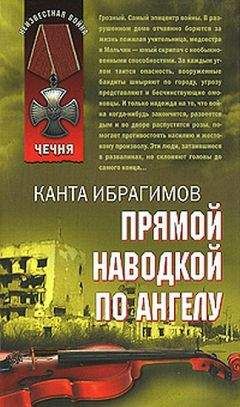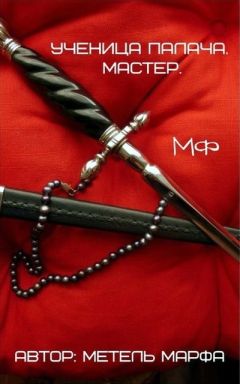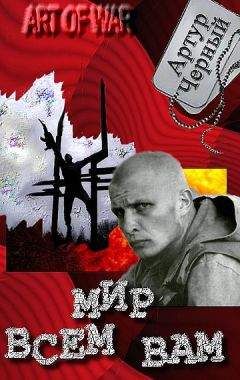— Вэк-вэк, — залаяла жаба; на улице точно поздние летние сумерки, сгущается ранняя августовская ночь.
— «Может, пронесет. Может, пьяный базар. Неужели в полночь начнут бомбить?» — от бессилия еще мучительнее мысли Розы.
— «Да нет, что они не люди? В городе полно и русских, и чеченцев. А дети и старики?…Мальчик!?»
От этих мыслей ей еще хуже, и ничего она уже не может предпринять, уже сдалась в бессилии, даже не кричит, и плакать не может. А тишина такая, очень странная, жуткая, будто предсмертная, что слышно, как часы-куранты в самой дальней комнате каждый час отбивают. И ей осталось одно: она гадает, что часы пробили: девять или десять, а может одиннадцать, лучше восемь.
Не первый день, тем более час, она в заточении проводит. Однако, таких томительно-тягостных кошмарных минут она еще не переживала. Словно секундная стрелка, время неумолимо бьет в висках, и ей хочется не то чтобы остановить, а как-то избавиться от этого учащенного барабана, но сердце, хоть и зажато до невыносимой боли в тиски, все еще живет, бьется, рвется наружу, как молот, стучит по раскаленной наковальне ее черепа, выпираясь страданием в глазах и ушах так, что хочется орать, визжать, бежать… на помощь Мальчику-сироте… Но, увы!
— Тик-так! Тик-так! — вновь пробили часы.
В оцепенении она прислушалась: тишина. А сердце, как и время неугомонно — стучит бешено в висках. И в таких невыносимых мучениях она еще два, может даже еще три раза слышала бой часов, и представляется ей, что уже и вторые петухи по окраине Грозного заголосили. И сама она не заметила, как забылась в глубоком сне, повалившись на отсыревшее одеяло: яростный взрыв и подземный толчок поставили ее на ноги. Ничего не соображая, крича, она бросилась наугад, до искр в глазах ударилась о бетон стены, повалилась, а в ушах стучит, и не как прежде, а еще быстрей, так, что простое человеческое сердце не может. И лишь маленько отлежавшись, после второго мощного взрыва, она, еще не веря в это, но все же поняла, что стреляют автоматы и пулеметы, и не здесь, а далеко, видать, в самом центре Грозного.
— Мальчик! Бабушка! — простонала она.
А стрельба все усиливается, все ближе, и со всех сторон. И как бы подбадривая ее, началась канонада. И она уже отчетливо слышит, как прямо над их домом летят ракеты: это по прямой из военной базы аэропорта бьют по центру Грозного, чтобы не воссоздать «Детский мир». А потом залетали самолеты и вертолеты — и началось во всю мощь и ненависть горнил.
И теперь не только центр, а весь город сотрясается. А Роза по подвалу мечется, не знает, в каком углу безопаснее: то там шарахнет, то здесь, и весь дом ходуном пошел, скрипит, стекла уже отзвенели, черепица стонет, балки трещат.
— «Всю жизнь Гута прав» — пронеслась черная мысль в сознании Розы.
— «Видать, здесь и вправду околею».
Так она и лежала, свернувшись в клубочек, ощущая, что с каждым взрывом оседает на нее новый слой пыли и ожидая вот-вот рухнет на нее весь дом, как явственно услышала человеческий стон, крик и даже имя свое. Она вскочила, сама заорала.
— Роза, Роза, — теперь отчетлив голос Тугана, сквозь щели зарится фонарь.
— Помоги, я ранен, кровь, помоги.
Они бессвязно, сквозь канонаду, стали друг другу кричать, что-то советовать. Туган очень долго не мог открыть люк, но до боли знакомый запах крови и смерти уже щедро орошал ее лицо.
— Лестницы нет, лестница сломалась! — пыталась она до него докричаться.
Он уже ослаб, плакал, из последних сил столкнул в подвал стул, потом второй, а руку помощи уже подать не смог. Роза несколько раз громоздила какие-то сооружения, голову высовывала, толкалась, но конструкция не выдерживала; она опрокидывалась, и сама о разбитую банку уже поранилась, но сдаваться нельзя: это и ее единственный путь спасения.
После многих попыток она все же выбралась: бросилась к однокласснику, хоть и темень, сразу же поняла — поздно! — задета главная артерия бедра, большая потеря крови, уже холодеют конечности.
— Потерпи, потерпи, сейчас, — она первым делом его же ремнем изо всех сил перевязала бедро выше раны.
— Машина есть?
— Есть, — еле прохрипел одноклассник.
— А водитель? Я не умею водить! — закричала на него она, будто он в этом виноват. — Спаси, спаси, — все шептал он, и вдруг полез в карман брюк, очень долго возился, и, наконец, достал две окровавленные пачки долларов.
— «Деньги Гуты», — пронеслось в ее голове. И себя, конечно же, она видеть не могла, но по молчаливой реакции Тугана поняла, что ее лицо — искаженный, быть может, злорадный оскал, и она на миг почему-то вспомнила Багу.
— Прошу, спаси, — Туган бессильно уронил пачки, и в ту же сторону упала его большая голова.
— Спасу, спасу, — заторопилась она.
— Потерпи, я в больницу, пришлю скорую.
Только на улице она поняла, что творится. Прямо над головой блестят траектории ракет, все гремит, всюду стреляют, землю трясет. И не будь она с этим уже знакома — повалилась бы под ближайший куст сирени и рыдала бы до конца. А ныне нельзя — Мальчик ждет, бабушка — калека.
Абсолютно не хоронясь, лишь поближе прижимаясь к теням заборов и зданий, она побежала в сторону центра. А летняя ночь, как никогда прекрасна! Нет духоты, свежо, пахнет перезревшей вишней и абрикосами. Мир полон звезд, ни облачка, и полная, сочная луна нависла над городом, словно освещает ей путь.
Добежав до Первомайской, она остановилась, и не для того, чтобы отдохнуть, а думая: в центре — дом — «Детский мир»; направо — больница. Нет, о Тугане она совсем не думает, о нем есть кому позаботиться — Туаевых не счесть. А вот Мальчик, где же он? По последней информации ранен, в больнице. И она побежала в сторону «Северного» базарчика. А потом, не доходя до развилки «Дома печати», где особенно сильно стреляли, вновь свернула направо, бежала средь маленьких домов частного сектора и уже почти что вышла к родной больнице, уже под ноги не смотрела, а зрела на фоне неба темное, большое здание, как ей подножку подставили, на всем ходу она повалилась, очень больно ударилась, взвыла, и не одна пара цепких рук ее схватили, оттащили в сторону, во двор разбитого дома.
— Ба, так это же баба, — совсем молодой голос на чеченском.
— Отпустите меня, пожалуйста, отпустите, — она порывается бежать.
— Да ты присядь, — силой дернули они ее вниз, сами сели на корточки рядом.
— Ты куда несешься сломя голову, жить надоело.
— Мальчик мой в больнице, раненый. Я сама там работаю медсестрой.
— Что не слышишь, сдурела, кругом бойня, в больнице засел ОМОН… И как ты досюда добралась?
— Пустите, пустите, мой Мальчик там, раненый, — одно и то же повторяла она.
Ее долго отговаривали, обещали, что к утру штурмом больницу возьмут, иль ОМОН сам сдастся.
— Пустите, пустите, — все твердила она.
— Ладно, — сдались боевики, — что предписано — не миновать. Только дай нам хоть как-то помочь. Они по рации связались со своими — попросили прекратить огонь.
Потом стали кричать по-русски:
— К вам идет женщина, медработник. Не стреляйте!
Они достали из аптечки бинты и, мотая через локоть, изготовили что-то вроде белого флажка.
Ничего не боясь, Роза стремглав ринулась к больнице и не околицей, как советовали, а напрямую — к центральному входу. Как ни стучала — не открыли, даже голоса не подали. Тогда, зная все досконально, она бросилась в сторону приемного отделения, там окна пониже к земле.
Сходу увидела разбитое окно, кулаком добила стекло, полезла, и только просунула голову, как сильные руки обхватили ее и потащили в глубь здания. Допрос был недолгий:
— Тьфу, ты откуда взялась? Да от нее могилой воняет.
— Я здесь работаю, я медсестра! — чуть ли не кричит она от радости, и ОМОНУ рада, она теперь в больнице.
Держа за локоть, ее вывели в темный, длинный коридор. Военные не ориентируются, ступают неуверенно.
— Куда нам? — стал резвым голос Розы.
— В сестринскую.
— Понятно, там темная комната. Пошли, — как опытный поводырь она быстро доставила конвоиров до охраняемой двери. В глаза вдарил свет керосинки и свечей:
— Роза! — закричали разом врачи, ее втолкнули.
В сестринской битком людей, даже сесть невозможно.
— Мальчик, где мой Мальчик? — с ходу выпалила Роза о своем.
— Мальчик? Какой мальчик? … А-а, Мальчик. Так он уже несколько дней как сам убежал, на рассвете, не уследили.
— О-о! — схватилась Роза за грудь.
— Прости, прости. Здесь такое творилось. Не верили, хоть и знали о предстоящем, всех выписывали, столько тяжелых, сами попали. В чем наша вина? Ведь война!
А на рассвете их поодиночке стали выводить в коридор. Мужчин сцепляли наручниками, женщин хирургическими жгутами и так обвязали всех в цепочку.
— У меня Мальчик раненый, отпустите меня, — настойчиво повторяла Роза.