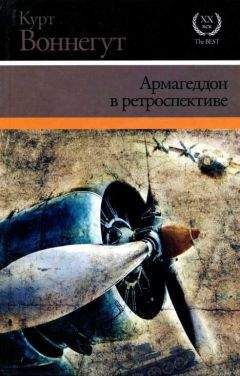Нам нужно искать новых друзей, потому что наши финансовые потребности чистой эксплуатацией не ограничиваются. Именно поэтому я обращаюсь к вам. Непосредственное обиталище доктора Тарбелла после первых кошмарных месяцев в барабане увеличилось в размерах — теперь это изолированная камера с медным покрытием восьми футов в диаметре и шести в высоту. Вы согласитесь: для того, что осталось от доктора Тарбелла, эти жилищные условия весьма скромны. Мы надеемся, что благодаря вашим открытым сердцам и дающим рукам зону его жизни удастся расширить до маленького кабинета, спальни и ванной комнаты. Недавние исследования показали: есть надежда сделать для него токопроводящее окно, хотя такое окно обойдется дорого.
Но ведь никакие затраты не сопоставимы с тем, что сделал для нас доктор Тарбелл. Если пожертвований от новых друзей — вас — будет достаточно, мы хотели бы наряду с расширением жилой зоны для доктора Тарбелла поставить ему памятник перед церковью, начертав на постаменте бессмертные слова, которые он написал в письме за несколько часов до того, как вступил в победную схватку с дьяволом:
«Если сегодня мне суждено победить, человечество освободится от дьявола. Можно ли мечтать о большем? А если найдутся и другие люди, которым удастся освободить землю от тщеславия, невежества и нищеты, человечество заживет спокойно и счастливо — доктор Горман Тарбелл».
Для нас ценно любое пожертвование.
С уважением доктор Люцифер Мефисто, председатель правления.
Было такое время, когда я принимал точку зрения отца: мол, будешь благопристойным, смелым, внушающим доверие и вежливым бойскаутом — и судьба тебя не обидит. Однако с тех пор мне не раз приходилось усомниться в справедливости родительских наставлений, в частности, полагаю, что адские пажити — куда лучшая школа жизни, чем игры в Зеленый патруль. Меня не покидает чувство, что мой приятель Луис Джилиано, с двенадцати лет куривший сигары, оказался гораздо лучше подготовлен к жизни в условиях хаоса, чем я, — хотя меня обучали, как обезвредить противника с помощью перочинного или консервного ножа и дырокола для кожаных ремней.
С наукой выживания я в полной мере познакомился в лагере для военнопленных в Дрездене. Мне, добропорядочному американскому отроку, пришлось делить невзгоды с Луисом — эдаким наглым пронырой, который в гражданской жизни толкал гашиш сопливым девчонкам. Сейчас я вспоминаю о Луисе, потому что едва свожу концы с концами, а он живет как принц, хорошо постигнув механизмы окружающего нас мира. Это было ясно уже в Германии.
В соответствии с демократическими положениями Женевской конвенции нам, рядовым, полагалось отрабатывать свой хлеб. Мы все и работали — все, кроме Луиса. Оказавшись за колючей проволокой, он сразу доложил англоговорящему нацисту-охраннику, что воевать не собирался, а эта братоубийственная война — дело рук Рузвельта и всемирной шайки еврейских банкиров. Я спросил его: ты это серьезно?
— Господи, да устал я, понимаешь? — ответил он. — Полгода повоевал — хватит с меня. Хочу передохнуть, и чтобы кормежка была не хуже, чем у людей. Мой тебе совет: больше жизни!
— Нет уж, спасибо, — процедил я сквозь зубы.
Меня послали на работу — махать лопатой. Луис остался в лагере — помощником немецкого сержанта. За то, что он с этого сержанта сдувал пылинки три раза в день, Луис получал дополнительный паек. А я наживал себе грыжу, разгребая завалы после налета американской авиации.
— Ты коллаборационист! — шипел я на него после невыносимо тяжелого дня среди городских руин. Он с охранником стоял у тюремных ворот, весь из себя чистенький и оживленный, — и кивал знакомым, которые изрядно намаялись и пропитались пылью улиц. В ответ на мой упрек Луис взялся сопроводить меня до нашего барака.
Он положил руку мне на плечо.
— Это, парнишка, как посмотреть, — сказал он. — Ты, между прочим, помогаешь немчуре расчищать улицы, чтобы они снова могли гонять по ним в грузовиках и на танках. Это не коллаборационизм? Я пособничаю немцам? Ты все перевернул с ног на голову. Я курю их сигареты и объедаю их — это плохо? Этим я помогаю немчуре выиграть войну?
Я плюхнулся на свою койку. Луис уселся рядом на соломенный матрац. Моя рука свисала вдоль койки, и взгляд Луиса остановился на моих наручных часах — подарке мамы.
— Отличные часы, парнишка, просто класс, — похвалил он. Потом добавил: — Наверное, после праведных трудов жрать хочется?
Естественно, я изнывал от голода. Суррогатный кофе, миска жиденького супа, три куска черствого хлеба — разве такой стол способен зажечь огонь в сердце разгребателя завалов, отпахавшего девять часов подряд? Луис относился ко мне с сочувствием. Я вообще ему нравился, и он был готов помочь.
— Ты хороший малый, парнишка, — сказал он. — Я тебя выручу. Заключим небольшую сделку. Какой смысл ходить голодным? А за эти твои часики дадут как минимум две буханки хлеба. Выгодная сделка, разве нет?
В ту минуту две буханки хлеба были чем-то ослепительно недосягаемым. Столько еды для одного человека — это даже не укладывалось в голове. Но я попробовал поднять ставку.
— Слушай, приятель, — оборвал он меня. — Эта цена — только для тебя, выше уже некуда. Я тебе еще одолжение делаю, понимаешь? Только про сделку — молчок, иначе тут каждый захочет получить за свои часы две буханки хлеба. Обещаешь?
Я поклялся всем, что есть в этой жизни святого, — о великодушии моего лучшего друга Луиса не узнает ни одна живая душа. Через час он вернулся. Украдкой оглядев казарму, достал из свернутой плащ-палатки длинную буханку хлеба и запихнул ее под мой матрац. Я ждал, что сейчас он осуществит второй подход. Но мои ожидания не сбылись.
— Не знаю, как тебе объяснить, парнишка. Охранник, с которым я веду дела, сказал: после контрнаступления немцев появилось много новых военнопленных — и часовой рынок рухнул. Слишком много желающих толкнуть свои часики, понимаешь? Ты уж извини, но старина Луис и так сделал для тебя все возможное — твои часы сейчас больше не стоят. — Он потянулся к буханке, лежавшей под матрацем. — Если считаешь, что тебя надули, только скажи — я буханку заберу и принесу назад твои часики.
В желудке у меня все застонало.
— Черт с ним, Луис, — быстро сдался я. — Пусть будет, как есть.
Наутро я проснулся и по привычке глянул на кисть — узнать время. И тут понял, что моих часиков больше нет. Солдат в койке надо мной тоже зашевелился. Я спросил у него: который час? Он свесил голову с кровати, и я увидел, что его челюсти активно перемалывают хлеб. Отвечая мне, солдат осыпал меня дождем из крошек. Часов у него больше не было. Солдат все жевал и глотал, наконец огромный кусок хлеба исчез в его чреве, и он смог внятно объясниться.
— Плевать я хотел на время, — сказал он. — Луис дал мне две буханки и десять сигарет за часы, которые и новыми едва двадцать долларов стоили.
У Луиса была монополия на общение с охранниками. Он ведь во всеуслышание заявлял, что согласен с нацистскими принципами, поэтому наши стражи считали его самым толковым из нас, в результате весь наш черный рынок шел через этого продажного Иуду. Через полтора месяца после того как нас расквартировали в Дрездене, никто, кроме Луиса и охранников, не знал, который сейчас час. Еще через пару недель Луис освободил всех женатых от их обручальных колец, выдвинув следующий мощный аргумент:
— Будете разводить сантименты — помрете с голодухи. Прекраснее любви нет ничего на свете, понятное дело.
О-о, как он на нас наживался! Позже я узнал, к примеру, что мои часы ушли за сотню сигарет и шесть буханок хлеба. Любой, кому знакомо чувство голода, согласится — компенсация была весьма щедрой. Почти все свое богатство Луис конвертировал в самые ценные из ценных бумаг — сигареты. Вскоре он понял: у него есть все условия для того, чтобы стать ростовщиком. Каждые две недели нам выдавали по двадцать сигарет. Рабы этой вредной привычки выкуривали свой паек за день или два, а потом в ожидании следующего пайка тряслись мелкой дрожью. Луис, которого стали называть «Другом народа» и «Честным Джоном», объявил: сигареты можно одолжить у него до следующего пайка — под вполне разумные пятьдесят процентов. Соответственно, раз в две недели его богатство удваивалось. Я жутко задолжал ему и отдать под залог мог разве что свою душу. Я сказал Луису, что нельзя быть таким жадным.
— Иисус выгнал менял из храма, — напомнил я ему.
— Так ведь они ссужали деньги, парнишка, — ответил он. — Я что, умоляю тебя занимать у меня сигареты? Это ты меня умоляешь, чтобы я одолжил их тебе. Сигареты, друг мой, — это роскошь. Чтобы остаться в живых, курить не обязательно. Очень может быть, что без сигарет ты проживешь дольше. Откажись от этой поганой привычки, и делу конец!