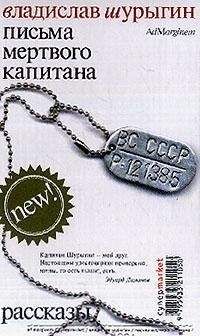Ознакомительная версия.
Кто-то из легкораненых взял в руки балалайку. Пощипал ногтем струны — подстроил, а потом мелко ударил, заходил рукой — зазвучал полузабытый, знакомый многим по прежней, довоенной, жизни наигрыш. Вокруг балалаечника собрались кружком бойцы и матросы: «Давай, парень! Играй, милый!» Балалаечник осмелел, разошелся. Мастерства у него прямо на глазах прибывало.
— Комиссар! Поди сюда! — позвал пехотинца стоявший на мостике старший лейтенант.
Боец подошел к рубке, блестя от пота, с перепачканными, похожими на грязную чалму бинтами на голове.
— Ты сам-то что ввязался? Ранен ведь. Без тебя народу хватит, — сказал старший лейтенант. — Твое дело — политобеспечение.
— А я что делаю?! — удивленно ответил боец.
— Это успеется. Туго будет, и я разденусь, помогу, а пока поговори-ка с людьми… У нас в трюме это… музыка имеется. Может, еще кто играть умеет…
Боец выразил сомнение — надо ли? Обстановка не совсем подходящая. Придем к своим — другое дело.
— Эх ты, голова садовая! — укоризненно произнес старший лейтенант. — Да ведь сейчас от музыки двойная польза. Люди веселее работают! А еще пусть эти… турки смотрят и слушают — не пали мы духом. Понял?
Лицо старшего лейтенанта исказила гримаса боли. За сутки он крепко сдал. Всего-то и осталось на том смуглом лице, что глаза да зубы. Последнюю фразу старший лейтенант почти выкрикнул.
Пехотинец-комиссар торопливо пообещал, что сейчас же, мигом, все выяснит, переговорит с людьми…
Музыканты нашлись. Пожилой боец, моторист-матросик и штатский в очках, взяв кто гитару, кто домбру, подсели, подладились. Оркестр зазвучал хотя и не очень слаженно, но громко. Живее заходили корзины и ящики с углем. Впервые заулыбался механик ли, кочегар ли — тот самый, что накануне вечером сообщил плавбатарейцам, что буксир идет в Синоп. Ободряя народ, сообщил:
— Скоро будем пары поднимать. Спасибо, хлопцы, за труды.
Вокруг русского буксира чем ближе к вечеру, тем больше появлялось богатых фелюг. Приплыли даже диковинные, с яркими узорчатыми балдахинами, под которыми важно восседали разодетые турки. Люди же в одеждах победнее сидели на веслах или управляли фелюгами.
На буксире судачили:
— Гляди, братцы, бабы! Ничего, чернявые!
— Еще не покормили тебя, а ты уже о бабах заговорил.
— Дак они же для меня… как из кино. Целый год воюю, и никакой любви. Это ж понимать надо!
Понимали. А важные турки показывали своим холеным женам приплывших из-за моря «урусов». Было на что посмотреть. Только «урусы» вовсе не казались страшными.
Над зеркальной гладью бухты далеко окрест звучали русские напевы. Быстро накатывалась южная ночь. Ожерелья зеленоватых, а затем золотых огней усыпали теплые мирные берега. Зажглись, задвоились фонари на воде, на фелюгах и богатых лодках. И уже не видно сидящих в них людей, как не видно «урусов». Только песни их, усиленные поющими голосами, не умолкали. Песня нежданно-негаданно заставила русских выплеснуть из себя всю боль и радость, всю тоску по тишине и покою, накопившуюся в их душах за двести пятьдесят дней жесточайшей осады.
Уже окончили погрузку угля, подняли пары, и старик капитан дрогнувшим голосом сказал «железному» старшему лейтенанту: «Ну что, сынок, двинем?» «Двинем, батя», — ответил старший лейтенант. Заслонив ладонью действующей руки переговорную трубу, капитан скомандовал в машину: «Малый вперед!» А музыканты все играли, люди пели. Не было, казалось, силы остановить это буйство жизни.
Из трубы буксира клубился горький дым. Летели и гасли в ночи искры, журчала за бортом вода. Домой! Домой!
Плавбатарейцы, все семеро, стояли плечо к плечу возле борта, смотрели, как отставали огоньки фелюг и лодок, слушали привольно звучавшие рядом голоса. И вдруг по левому борту, далеко в море, у самого слившегося с черным небом горизонта, заметили какое-то свечение. Вгляделись — нет, не показалось. Далекое зарево… Смолкла песня. Сама собою, точно и она, одушевленная, увидела это…
— Севастополь…
— Эх, ребята!
Кто-то с размаху хрястнул о планширь балалайку, только застонали струны да брызнула в стороны щепа… Гитарист тоже разломил надвое охнувшую гитару, а с мостика — как он только в темноте разглядел — по-стариковски сердито закричал капитан:
— Вы что, ошалели?! Имущество-то казенное — вон откуда везем!
Стыдно стало людям минутной слабости своей. И все равно вроде бы все они, стоящие на палубе, были чем-то виноваты перед тем далеким, слабым заревом — хотя бы тем, что ушли от него… Журчала за бортом вода, стелился над палубой горький, невидимый в ночи дым. Севастопольцы уходили, чтобы вернуться к тому берегу, где полыхало зарево пожара… Вернуться в десантах морской пехоты, палубными номерами возле орудий и пулеметов, в полках армий, штурмовавших Перекоп.
Так, старшина 2-й статьи Михаил Михайлович Ревин сразу же будет зачислен в экипаж тральщика «Якорь», начнет сопровождать танкеры и сухогрузы, идущие из Батуми в Геленджик и Туапсе.
Глухими осенними ночами 1942 года будет высаживать в тыл врага лихие группы разведчиков. Совершит десятки рейсов под огнем и бомбежкой, доставляя боеприпасы и пополнение на героическую Малую землю. В составе отряда военных кораблей будет идти на тральщике сквозь зимнее штормовое море к берегам Румынии, к порту Констанца, чтобы неожиданным огневым налетом накрыть санаторий с высшими военными чинами рейха, которые поправляли расшатанное на восточном фронте здоровье…
Весь 1945 год и еще несколько лет после окончания войны Михаил Ревин будет тралить мины, расчищать воды Черного моря… Все это будет позже, а тогда, в июле сорок второго, буксир с севастопольцами приближался к Батуми.
Едва вошел он в советские территориальные воды, как навстречу ему вылетел торпедный катер под родным бело-голубым краснозвездным флагом.
— Кто такие? Откуда идете? — запросили с катера.
— Севастопольцы! — ответили с буксира.
А когда корабли сблизились, кто-то из морских командиров, узнав командира катера, радостно прокричал:
— Сашка!
…Люди целовали землю. Обнимались, плакали от радости. Они на своей земле, они живы!
«Железный» старший лейтенант благодарил пехотинца:
— Спасибо, комиссар!
— Не за что, товарищ старший лейтенант. Я ведь ничего особенного не сделал.
— А что ты должен был делать особенное? Давал людям бодрый пример. За это и спасибо! — Старший лейтенант крепко обнял пехотинца и Ревина. — Будьте здоровы, ребята! Земля круглая, небось еще свидимся!
Кто был тот старший лейтенант? Никто не знал его фамилии, как не знали фамилии пехотинца, назначенного на время плавания комиссаром…
…Михаил Михайлович Ревин — москвич. Много лет работал инженером-электриком в одном из научно-исследовательских институтов. Ушел на пенсию… Не известно, как сложилась дальнейшая судьба Николая Некрасова, Николая Кожевникова, Ивана Полтаева, Михаила Бочкова, Петра Шилова. Не известно также, кто из плавбатарейцев был седьмым на том буксире…
Много лет я мечтал встретиться с Григорием Александровичем Бутаковым, автором идеи создания плавбатареи № 3. Встречал ли Бутаков кого-либо из плавбатарейцев, знал ли о чьей-либо судьбе?
В 1968 году, после моего рассказа о плавбатарее в газете «Красная звезда», Григорий Александрович откликнулся.
С грустью узнал я, что сын его, лейтенант Александр Григорьевич Бутаков, в 1942 году погиб на Балтике. Бомба немецкого пикировщика попала в катер, на котором он вел бой…
Пресеклась династия русских моряков Бутаковых, династия, насчитывавшая более двухсот пятидесяти лет… Правда, остался, как сказал мне при встрече Григорий Александрович, еще племянник его, но он, к сожалению, на флоте не служит…
Мы встретились с Бутаковым в Ленинграде, в кают-компании легендарного крейсера «Аврора». На крейсер я приехал как специальный корреспондент журнала «Советский воин».
Сфотографировались на память. Разговорились.
Плавбатарея… Да, он ее хорошо помнит. Такое не забывается.
Бывал ли Бутаков на плавбатарее после ее постановки на «мертвые якоря» в море или в бухте Казачьей, когда стала она железным островом?
Нет, не бывал. Не удалось. Разумеется, очень хотел увидеть ее в деле, поговорить с Мошенским, с зенитчиками…
Но шла война, и Григорий Александрович воевал на другом, доверенном ему участке. Время от времени слышал в сообщениях и приказах, читал в газетах о боевых делах плавбатареи № 3, или, как Бутаков ее по-прежнему называл, «Не тронь меня!». Радовался за плавбатарейцев, гордился ими. С болью узнал, что батарея перестала существовать…
Встречал ли Григорий Александрович кого-либо из плавбатарейцев?
Ознакомительная версия.