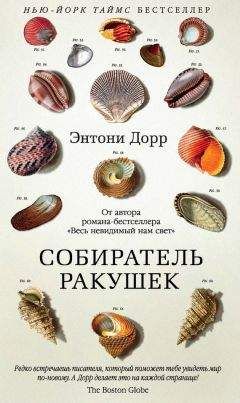— Нет, — шепчет он. — Она ходит к морю.
— Если они найдут хлеб, — шепчет в ответ мадам Рюэль, — мы все погибли.
Он вновь глядит на часы, но солнце как будто выжгло сетчатку. В пустой витрине мясной лавки покачивается на бечевке одинокий кусок соленой грудинки. Трое школьников смотрят на Этьена, ожидая, когда тот упадет. И вот, когда утро уже готово разлететься осколками, он внезапно отчетливо видит железную решетку перед старой конурой в городских укреплениях. Место, где они втроем играли в детстве: он, Анри и Юбер Базен. Маленькая сырая пещера, где мальчишки могут поорать в голос, а могут тихонько пофантазировать.
Тощий как спичка, смертельно бледный Этьен Леблан бежит по рю-де-Динан, а за ним едва поспевает мадам Рюэль, жена пекаря; свет еще не видел таких жалких спасателей. Церковный колокол бьет два, три, четыре раза, и так до восьми. Этьен сворачивает на рю-де-Бойе, и ноги сами несут его вдоль чуть наклонной крепостной стены, по дорожке их с братом детства, под нависший занавес плюща, а там, по другую сторону запертой решетки, — дрожащая, мокрая до пояса, но совершенно живая Мари-Лора. Она сжалась в комок у стены, на коленях у нее раскрошенный батон.
— Ты пришел, — говорит она после того, как впустила их внутрь и почувствовала на своих щеках руки Этьена. — Ты пришел…
Вернер помимо воли все время думает о ней. Девушка с тростью, девушка в сером платье, девушка, сотканная из тумана. В ее встрепанных волосах, в бесстрашной поступи есть что-то от иного мира. Она поселилась в нем, живой двойник убитой венской девочки, преследующей его каждую ночь.
Кто она? Дочь французского радиста? Внучка? Зачем он подвергает ее такой опасности?
Они колесят по деревушкам вдоль реки Ранс. Вернер не сомневается, что его скоро разоблачат. Он вспоминает безупречно выбритого полковника перед комендатурой, тощего фельдфебеля с газетой. Они уже знают? А Фолькхаймер? И есть ли спасение? Иногда вечерами в сиротском доме они с Юттой мечтали, что лед из каналов поднимется, наползет на поля, скроет шахтерские домишки, раздавит фабричные трубы, так что утром они выглянут в окно и вместо всего привычного увидят лишь белый сверкающий простор. Такое чудо нужно ему теперь.
Первого августа к Фолькхаймеру приходит лейтенант. На позициях не хватает людей, сообщает он. Всех, кто не занят непосредственно в обороне Сен-Мало, отправляют в боевые части. Нужны по меньшей мере два человека.
Фолькхаймер обводит их взглядом. Бернд слишком стар. Вернер — единственный, кто умеет чинить оборудование.
Нойман-первый. Нойман-второй.
Через час оба сидят в кузове армейского грузовика, зажав винтовки между колен. Нойман-второй не похож на себя: будто смотрит не на бывших товарищей, а на свою смерть. Будто он сейчас покатится в черной карете по крутому откосу в бездонную пропасть.
Нойман-первый машет рукой. Лицо равнодушное, но складки в уголках глаз выдают отчаяние.
— В конце концов, — говорит Фолькхаймер, провожая грузовик, — все мы там будем.
В ту ночь Фолькхаймер ведет «опель» по приморскому шоссе на восток, в сторону Канкаля. Бернд с первой станцией усаживается на пригорке, Вернер со второй остается в кузове. Фолькхаймер в кабине; его мощные колени упираются в руль. Далеко в море что-то горит, возможно корабль, и на небе подрагивают созвездия. Вернер знает, что в два часа двенадцать минут француз снова выйдет в эфир, а он выключит станцию или сделает вид, будто слышит только помехи. Прикроет шкалу рукой и постарается не дрогнуть ни одним мускулом.
Этьен говорит, что не надо было столько на нее взваливать, подвергать ее такой опасности. Что она больше не будет выходить из дому. По правде сказать, Мари-Лора рада. Немец преследует ее в кошмарах; он трехметровый краб-стригун, щелкает клешнями и шепчет в ухо: «Один простой вопрос».
— А как же батоны, дядя?
— За ними буду ходить я. Мне с самого начала надо было так делать.
Утром четвертого и пятого августа Этьен подолгу стоит перед дверью, бормоча себе под нос, потом толкает решетку и выходит. Очень скоро под телефонным столиком на третьем этаже звенит колокольчик: это значит, что Этьен вернулся, задвинул три засова и стоит в прихожей, тяжело дыша, словно чудом избежал тысячи опасностей.
Помимо хлеба, есть почти нечего. Горох. Перловая крупа. Сухое молоко. Последние банки домашних консервов мадам Манек. В голове Мари-Лоры неотступно кружат одни и те же вопросы, и мысли несутся за ними, как гончие. Сперва полицейские два года назад: «Мадемуазель, упоминал ли он что-нибудь конкретное?» Потом хромой фельдфебель с мертвым голосом: «Не оставил ли тебе чего-нибудь отец или не рассказывал ли о чем-нибудь, что привез с собой из музея?»
Папа ушел. Мадам Манек ушла. Мари-Лора помнит, как вздыхали парижские соседи, когда она ослепла: «Словно на этой семье проклятье».
Она пытается забыть страх, голод, вопросы. Надо жить, как улитка, — от мгновения до мгновения, по сантиметрику. Утром шестого августа Мари-Лора сидит с Этьеном на кушетке и читает вслух следующие строки: «И верно ли, что капитан Немо никогда не отлучается с „Наутилуса“? Разве не бывало, что он не показывался целыми неделями? Что он делал в это время? Я воображал, что он страдает припадками мизантропии! А на самом деле не выполнял ли он какую-либо тайную миссию, недоступную моему пониманию?»
Она захлопывает книгу.
— Разве ты не хочешь узнать, спасутся ли они на этот раз? — спрашивает Этьен.
Однако Мари-Лора мысленно повторяет странное письмо отца, последнее, которое они получили.
Помнишь твои дни рождения? Как утром на столе тебя всегда ждали два подарка? Мне жаль, что все так обернулось. Если захочешь понять, поищи внутри дома Этьена внутри дома. Я знаю, что ты поступишь правильно, хотя мне хотелось бы подарить тебе что-нибудь получше.
Мадемуазель, упоминал ли он что-нибудь конкретное?
Можно нам посмотреть то, что он привез с собой?
У него в музее было много ключей.
Дело не в передатчике. Этьен ошибается. Немца интересует не радио, а что-то, о чем Мари-Лора, по его мнению, может знать. И он услышал то, что хотел. Она все-таки ответила на его вопрос.
Только дурацкий макет города.
Вот почему он ушел.
Поищи внутри дома Этьена.
— Что с тобой? — спрашивает дядя.
Внутри дома.
— Мне надо отдохнуть, — говорит она, поднимается по лестнице, прыгая через две ступени, закрывает дверь спальни и запускает руки в макет.
Восемьсот шестьдесят пять зданий. Вот, в углу, высокий узкий дом № 4 по улице Воборель. Пальцы скользят по фасаду, находят дверной проем. Нажатие — и домик выскакивает из макета. Мари-Лора трясет его — ничего. Но ведь так бывало и раньше. Хотя пальцы дрожат, она решает головоломку в считаные секунды. Поворачивает трубу на девяносто градусов, сдвигает дощечки крыши: раз, два, три.
Четвертая дверь, и пятая, и так далее, до тринадцатой запертой двери не больше башмака.
Откуда тогда известно, спросили дети, что он точно там?
Надо верить преданию.
Она переворачивает домик. На ладонь выпадает грушевидный камень.
Авиация союзников разбомбила железнодорожный вокзал. Немцы взорвали портовые сооружения. Самолеты возникают из облаков и пропадают снова. Этьен слышал, что в Сен-Серван свозят раненых немцев, что американцы захватили Мон-Сен-Мишель в тридцати километрах от Сен-Мало, что освобождения можно ждать со дня на день. Он приходит к булочной, как раз когда мадам Рюэль отпирает дверь. Та сразу проводит его в дом:
— Им нужно знать положение зенитных батарей. Координаты. Справитесь?
Этьен стонет:
— У меня Мари-Лора. Почему не вы, мадам?
— Я ничего не понимаю в картах, Этьен. Минуты, секунды, магнитные склонения, поправки. Вы в этом разбираетесь. Вам нужно только найти батареи, отметить на карте и передать координаты.
— Мне придется ходить с компасом и блокнотом, других способов нет. Меня застрелят.
— Им очень важно знать точную позицию орудий. Подумайте, скольких людей это спасет. И надо все выяснить сегодня же ночью. Говорят, что завтра интернируют мужчин от восемнадцати до шестидесяти лет. У каждого проверят документы и всех, кто по возрасту способен воевать и может быть участником Сопротивления, запрут в Форт-Насионале.
Пол шатается. Этьен в паутине, она опутывает руки и ноги, трещит при каждом движении, как горящая бумага. С каждой секундой кокон все туже. Звенит колокольчик на двери, кто-то входит. Мадам Рюэль, словно рыцарское забрало, опускает на лицо маску равнодушия.