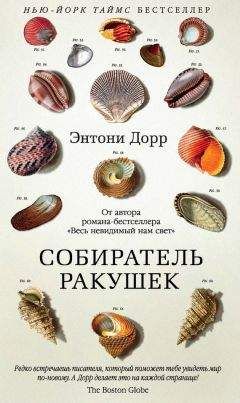И вновь она думает о макете наверху и о камне внутри. Слышит голос доктора Жеффара: «…что нечто настолько маленькое может быть настолько красивым. Настолько дорогим».
— В Парамэ уже горят дома, мадемуазель. Бомбят порт и собор, в больнице нет воды. Врачи моют руки вином. Вином!
Голос у мсье Левитта дрожит. Мари-Лора вспоминает, как мадам Манек говорила: «Всякий раз, как в городе случается кража, Клод, отправляясь спать, прячет бумажник между ягодиц».
— Я останусь, — отвечает она.
— Господи, девочка, мне что, тебя силком вытаскивать?
Мари-Лора вспоминает, как немец ходил перед решеткой Юбера Базена, водя газетой по прутьям, и чуть-чуть тянет дверь на себя. Парфюмера кто-то сюда подослал.
— Уж конечно, мы с дядей не одни ночевали сегодня дома, — говорит она, стараясь хотя бы внешне сохранить спокойствие. От парфюмера разит так, что у нее кружится голова.
— Мадемуазель, — теперь голос звучит умоляюще, — образумьтесь. Идемте со мной и оставьте все здесь.
— Можете поговорить с моим дядей, когда он вернется. — И Мари-Лора запирает дверь на щеколду.
Ей слышно, что он по-прежнему стоит у входа. Просчитывает издержки и выгоды. Потом уходит, таща за собою свой страх, точно телегу. Мари-Лора наклоняется и поправляет проволоку. Что мог увидеть парфюмер? Этьен был бы доволен. За окном кухни проносятся стрижи. Паутина вспыхивает на солнце и тут же гаснет.
И все-таки: а что, если парфюмер говорил правду?
День потихоньку гаснет. Сверчки в подвале заводят свою песенку — ритмическое трр-трр. Августовский вечер; Мари-Лора, в рваных чулках, идет на кухню и отрывает еще кусок от батона мадам Рюэль.
Под конец дня австрийский повар подает свиные почки в томате на гостиничных тарелках: у каждой на ободке — серебряная пчела. Все сидят на мешках с песком или на снарядных ящиках. Бернд засыпает прямо за столом, Фолькхаймер в уголке говорит с лейтенантом о радио в подвале, вдоль стен австрияки в касках методично жуют. Уверенные, опытные вояки. Уж их-то никакие сомнения не мучат.
После ужина Вернер поднимается на последний этаж, встает в шестиугольную ванну и чуть-чуть приоткрывает ставень. Вечерний воздух блаженно свеж. Под окном, на бастионе, ждет 88-миллиметровое орудие. За ним, за амбразурами, под двенадцатиметровой стеной, плещет зеленое море, взлетают белые брызги прибоя. Слева город, серый и плотный. Далеко на востоке дрожит алое зарево невидимой битвы. Американцы прижали их к океану.
Вернеру кажется, что в пространстве между тем, что уже произошло, и тем, что еще произойдет, висит невидимая мембрана: по одну сторону известное, по другую — неведомое. Он думает о девушке, которая сейчас, может быть, в городе, а может быть — нет. Воображает, как она стучит тростью по водосточным канавкам. Идет, обратив к миру незрячие глаза и ясное лицо.
По крайней мере, он сберег тайну ее дома. Защитил ее.
На дверях домов, на рыночных палатках и фонарных столбах расклеен новый приказ командующего гарнизоном: «Запрещается покидать Старый город. Запрещается выходить на улицу без особого разрешения».
Как раз когда Вернер собирался закрыть ставень, в темном небе возник одинокий самолет. Из его брюха выпархивает белая, растущая на глазах стая.
Птицы?
Стая трепещет, разлетается над городом: это бумага. Тысячи листков. Они скатываются по крышам, кружат над парапетами, оседают на мокром пляже.
Вернер спускается в холл. Один из австрийцев разглядывает листок под лампой.
— Здесь все по-французски, — говорит он.
Вернер берет листовку. Типографская краска такая свежая, что пачкает пальцы.
«Срочное обращение к жителям! — гласит текст. — Немедленно выходите на открытую местность!»
Она читает дальше: «Кто мог сказать заранее, сколько тогда понадобится времени для нашего освобождения? Не задохнемся ли мы раньше, чем „Наутилус“ сможет вернуться на поверхность моря? Не суждено ли ему со всем его содержимым быть погребенным в этой ледяной могиле? Опасность казалась грозной. Но все смотрели прямо ей в глаза, и все решились исполнить долг свой до конца».
Вернер слушает. Команда прорубается сквозь айсберги, стиснувшие подводную лодку; «Наутилус» идет на север вдоль побережья Южной Америки, мимо устья Амазонки, и тут его атакуют гигантские кальмары. Лопасти не крутятся. Капитан Немо впервые за несколько недель выходит из каюты, лицо у него мрачное.
Вернер встает и, таща в одной руке радио, в другой — аккумулятор, добирается до Фолькхаймера в его золотистом кресле. Ставит аккумулятор на пол, ладонью проводит в темноте по руке товарища к плечу, находит массивную голову. Надевает на нее наушники.
— Слышишь? — спрашивает Вернер. — Это удивительная и прекрасная история. Жаль, что ты не знаешь французского. Роговые челюсти исполинского кальмара застряли в лопастях подводной лодки, и капитан сказал, что придется всплыть и биться с чудищем врукопашную.
Фолькхаймер медленно втягивает воздух. Он не шевелится.
— Она говорит по тому передатчику, который мы должны были засечь. Я нашел его. Недели две назад. Нам сказали, это террористическая сеть, но там только старик и девушка.
Фолькхаймер молчит.
— Ты ведь с самого начала знал, верно? Что я знаю?
Фолькхаймер, вероятно, не слышит Вернера из-за наушников.
— Она все время повторяет: «Помогите!» Зовет отца, дядю. Говорит: «Он здесь. Он убьет меня».
Разрушенное здание над ними содрогается, и Вернеру кажется, что они в «Наутилусе» под двадцатиметровой толщей воды и десять разъяренных спрутов хлещут щупальцами по корпусу подводной лодки. Передатчик должен быть довольно высоко, под самой крышей, куда в любую минуту может упасть бомба.
Вернер говорит:
— Я спас ее лишь для того, чтобы услышать, как она погибнет.
Фолькхаймер все не отзывается. Умер или приготовился умереть — какая разница? Вернер забирает наушники и садится на пол рядом с аккумулятором.
«Первый помощник, — читает девушка, — яростно дрался с другими чудищами, которые всползали на боковые стены „Наутилуса“. Экипаж боролся с ними, пустив в ход топоры. Нед, Консель и я всаживали наше оружие в мясистую массу спрутов. Сильный запах мускуса наполнил воздух».
Этьен слезно взывает к охранникам, к смотрителю форта, к другим заключенным: «Моя племянница, моя внучатая племянница, она слепая, она одна…» Говорит, что ему шестьдесят три, а не шестьдесят, что у него несправедливо изъяли документы, что он — не террорист, идет к дежурному фельдфебелю и, запинаясь, произносит немецкие фразы, которые кое-как составил: «Sie müssen mich helfen!»[44] и «Meine Nichte ist herein dort!»[45] — но фельдфебель только пожимает плечами и смотрит на горящий город, словно говоря: кто тут что может поделать?
Потом в форт попадает шальной американский снаряд, раненых относят в подвал, мертвых заваливают камнями на берегу чуть выше верхней отметки прилива, и Этьен умолкает.
Отлив, снова прилив. Последние силы Этьена уходят на то, чтобы унять шум в голове. Иногда он почти убеждает себя, что различил за пылающими остовами зданий на северо-западном краю города крышу собственного дома. Что тот по-прежнему стоит. А потом все снова застилается дымом.
Ни одеяла, ни подушки. Уборные — страх и ужас. Еду приносит жена смотрителя по четырехсотметровой полоске камней, которая обнажается в отлив, под звуки рвущихся в городе бомб. Все постоянно голодны. Чтобы отвлечься, Этьен придумывает фантастические планы побега: спрыгнуть с парапета, проплыть несколько сотен метров, одолеть прибойную полосу. По заминированному пляжу добраться до запертых ворот. Бред.
Заключенные в форту видят взрывы раньше, чем слышат их грохот. В прошлую войну Этьен знал артиллеристов, которые, глядя в бинокль, по цвету взметнувшего фонтана определяли, во что попал снаряд. Серый — камни. Бурый — земля. Розовый — люди.
Он смежает веки и вспоминает, как в книжной лавке мсье Эбрара впервые услышал радио. Как поднимался на хоры в церкви и слушал голос Анри, взмывающий к потолку. Вспоминает тесные ресторанчики с резными деревянными панелями и свинцовыми оконными переплетами, куда родители водили их обедать; корсарские виллы с зубчатыми фризами, дорическими колоннами и вмурованными в стены золотыми монетами; оружейные и меняльные лавки на приморских улочках и надписи, которые Анри царапал на крепостной стене: «Осточертело! Скорей бы отсюда выбраться!» Вспоминает дом Леблана, собственный дом! Высокий и узкий, с винтовой лестницей, похожей на закрученную раковину, — дом, где сквозь стену иногда проходит призрак его брата, где жила и умерла мадам Манек, где не так давно они с Мари-Лорой сидели на кушетке, воображая, что летят над гавайскими вулканами и над лесами Перу, где всего неделю назад она сидела по-турецки на полу и читала про добычу жемчуга у побережья Цейлона, про капитана Немо и Аронакса в водолазных костюмах, про то, как темпераментный канадец Нед Ленд готовится метнуть гарпун в бок акуле… Все это горит. Все, что ему памятно.