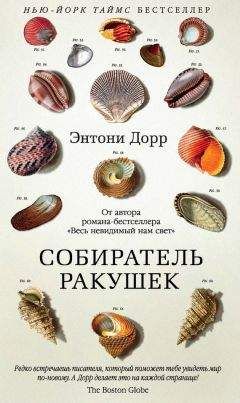Над Форт-Насионалем разгорается убийственно яркая заря. Млечный Путь — тускнеющая река. Этьен смотрит на пожар и думает: во вселенной так много горючего…
Последние слова капитана Немо
К полудню двенадцатого августа Мари-Лора прочла в микрофон семь из последних девяти глав. Капитан Немо освободил свой корабль от гигантского спрута и тут же оказался в центре циклона. Через несколько страниц он протаранил боевой корабль, пройдя через его корпус, пишет Жюль Верн, «как иголка парусного мастера сквозь парусину». Теперь «Наутилус» дремлет в морской глубине, а капитан играет на органе печальные и заунывные аккорды, истинный плач души. Остались три страницы. Удалось ли ей кого-нибудь поддержать, увлечь за собой в темные коридоры «Наутилуса» — дядюшку, запертого в темном подвале вместе с сотней других задержанных, или двух-трех американских артиллеристов в полях, — Мари-Лора не знает.
Однако она рада, что книга заканчивается.
Немец внизу дважды вскрикивал от отчаяния, потом умолк. Почему бы, думает Мари-Лора, не пойти и не отдать ему домик? Может быть, тогда он оставит ее в живых?
Сперва она закончит читать. Потом решит.
И вновь Мари-Лора открывает домик, вытряхивает камень на ладонь.
Что будет, если богиня снимет проклятие? Погаснет ли пожар, исцелится ли земля, вернутся ли горлицы на подоконники? Вернется ли папа?
Думай о следующем вздохе. О следующем ударе сердца. Нож совсем близко под рукой. Пальцы прижаты к строкам книги. Канадский гарпунщик Нед Ленд измыслил план бегства. «Море бурное, — говорит он профессору Аронаксу, — ветер крепкий, но сделать двадцать миль на легкой посудинке с „Наутилуса“ меня нисколько не пугает. Я сумею незаметно перенести в шлюпку немного еды и несколько бутылок с водой».
«Я буду с вами, Нед».
«А если меня застанут, я буду защищаться, пока меня не убьют».
«Мы умрем вместе, Нед».
Мари-Лора выключает передатчик. Она думает об улитках в гроте Юбера Базена, о десяти тысячах маленьких трубачей: как они втягиваются в свое витые раковины и как им хорошо в гроте, где чайки не могут их схватить, унести в небо и бросить на камни.
Фон Румпель пьет испорченное божоле из бутылки, которую нашел в кухне. Четыре дня в доме, и сколько ошибок он наделал! Быть может, Море огня все это время спокойно лежало себе в парижском музее, а наглый минералог и замдиректора до сих пор смеются, вспоминая, как провели наивного немца. Или парфюмер его предал, забрал у девчонки алмаз. А может, увел ее за город вместе с рюкзаком. Или старик затолкал алмаз себе в задний проход и как раз сейчас высрал — двадцать миллионов франков в кучке дерьма.
А может, камня никогда и не было. Может, все это легенда, сказка.
Он был настолько уверен. Уверен, что найдет тайник, решит головоломку. Что камень его вылечит. Девчонка не знает, старика удалось убрать — все складывалось превосходно. И в чем можно быть уверенным теперь? Только в зловещем ползучем растении, убивающем его тело, отравляющем каждую клетку. В ушах звучит отцовский голос: «Тебя просто испытывают».
Кто-то кричит по-немецки:
— Ist da wer?[46]
Отец?
— Эй, там!
Фон Румпель прислушивается. Звуки все ближе. Он осторожно подходит к окну, надевает каску и выглядывает наружу.
С улицы смотрит капрал немецкой пехоты:
— Господин фельдфебель? Вот уж не думал… В доме никого нет?
— Никого. Куда вы направляетесь, капрал?
— В крепость Сите, господин фельдфебель. Мы эвакуируемся. Бросаем все. Удерживаем только шато и Голландский бастион. Всем остальным приказано отступить.
Фон Румпель упирается подбородком в разбитый подоконник. У него такое чувство, что голова сейчас отвалится, упадет на мостовую и треснет.
— Весь город будет подвергнут массированной бомбардировке, — говорит капрал.
— Когда?
— Завтра прекращение огня. Говорят, в полдень. Чтобы гражданские могли уйти. Затем противник возобновит наступление.
— Мы сдаем город? — спрашивает фон Румпель.
Неподалеку взрывается снаряд, эхо прокатывается между осевшими домами. Капрал придерживает рукой каску. Осколки камней прыгают по мостовой.
— Вы из какого подразделения, фельдфебель?
— Занимайтесь своим делом, капрал. Я здесь почти закончил.
Фолькхаймер не шевелится. Отвратительная жижа из ведра с малярными кистями давно выпита. Вернер крутит настройку. Он не слышал девушку уже… сколько? Час? Больше? Она прочла, как «Наутилус» затянуло в водоворот, волны были выше зданий, подводное судно вздымалось, его стальные ребра трещали, и закончила, как догадывается Вернер, последними строками книги: «Уже шесть тысяч лет тому назад Екклезиаст задал такой вопрос: „Кто мог когда-либо измерить глубины бездны?“ Но дать ему ответ из всех людей имеют право только двое: капитан Немо и я».
Затем передатчик умолк, и вокруг Вернера сомкнулась кромешная тьма. Все эти дни — сколько их уже прошло? — голод ощущался как рука внутри, которая тянется вверх, к лопаткам, потом вниз, к животу. Корябает кости. А вот нынче днем — или ночью? — голод угас, как пламя в прогоревшем очаге. В конечном счете оказалось, что между пустотой и наполненностью особой разницы нет.
Вернер моргает: сквозь потолок, будто сквозь тень, спускается венская девочка в пелеринке. Держа в руках пакет с увядшей зеленью, она садится на обломки. Вкруг нее роится облако пчел.
Темно, хоть глаз коли, но ее он видит отчетливо.
Она считает по пальцам, перечисляя. За то, что оступилась в строю. За то, что работала слишком медленно. За то, что спорила из-за хлеба. За то, что слишком долго оправлялась в лагерном нужнике.
За слезы. За то, что не складывала вещи, как предписано.
Это очевидный бред, но в бессмысленных словах есть что-то, какая-то истина, которую Вернер не позволяет себе понять. Девочка старится на глазах, рыжие волосы седеют, воротник выцветает, она превращается в старуху — и у Вернера уже брезжит понимание, кто она на самом деле.
За то, что жаловалась на головную боль.
За пение.
За разговоры ночью в бараке.
За то, что забыла дату своего рождения во время вечерней поверки.
За то, что слишком медленно разгружала вагон.
За то, что не сдала ключи, как положено.
За то, что не донесла охраннику.
За поздний подъем.
Фрау Шварценбергер, вот кто она такая. Еврейка из лифта в доме Фредерика.
За то, что закрыла глаза, когда к ней обращались.
За то, что собирала хлебные крошки.
За попытку войти в парк.
За воспаленную кожу на руках.
За то, что попросила сигарету.
За недостаток воображения — и в темноте Вернеру кажется, что он достиг дна. Как будто все это время он погружался по спирали все ниже и ниже, как «Наутилус» в мальстрем, как отец в шахту: из Цольферайна через Шульпфорту, через ужасы России и Украины, через Вену, мимо матери с дочерью, через стыд, которым обернулись все его устремления, сюда — в подвал на краю континента, где призрак бормочет нелепицу; фрау Шварценбергер идет к нему, на ходу превращаясь из старухи в ребенка, — ее волосы вновь рыжеют, морщины разглаживаются, и вот уже перед Вернером лицо семилетней девочки, а посредине лба — дыра черней черноты вокруг, и в глубине этой дыры бурлит целый город: десять тысяч, пятьсот тысяч душ, все смотрят на него из улиц, из окон, из дымящихся парков… и тут гремит гром.
Молния.
Артиллерия.
Девочка исчезает.
Земля дрожит. Внутренности в животе содрогаются. Балки стонут. Затем медленное шуршание сбегающей ручейками пыли и слабое, обреченное дыхание Фолькхаймера на расстоянии вытянутой руки.
Примерно в полночь тринадцатого августа — шестые сутки на дядюшкином чердаке — Мари-Лора берет левой рукой пластинку и пальцами правой ведет по ее дорожкам, восстанавливая в голове всю мелодию, ее подъемы и спады. Потом ставит пластинку на дядюшкин патефон.
Она не пила полтора дня. Не ела два. Чердак пахнет жарой, пылью, затхлостью, мочой Мари-Лоры из бритвенного тазика в углу.
Мы умрем вместе, Нед.
Осада, кажется, не кончится никогда. На улицах сыплется каменная кладка, город превращается в крошево, и только один этот дом стоит.
Мари-Лора вынимает из кармана дядюшкиного пальто неоткрытую банку, которую так долго берегла — может быть, потому, что это последняя связь с мадам Манек. Или потому, что, если открыть и консервы окажутся испорченными, горечь утраты ее убьет.