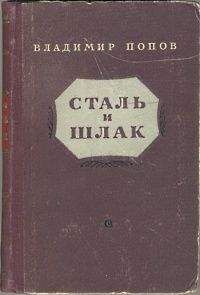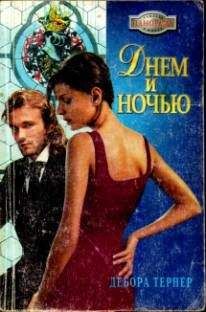— Но ведь завод не стал, — возразил Ротов, к которому понемногу возвращалась прежняя самоуверенность.
— Да, не стал, но он мог стать. И в том, что завод не станет, не твоя заслуга. Тебя выручили люди — Мокшин, Макаров. А как ты относишься к людям? Макарова, главного инженера большого донецкого завода, ты позволяешь себе третировать даже в моем присутствии. А он, как рядовой газовщик, в сорокаградусный мороз, на ветру, сверлит отверстия, ищет газ, ищет выход для завода, для тебя лично. А ведь этот человек потерял все, что имел, и отдает все, что у него осталось.
Глаза наркома прищурились еще больше, но Ротов понял, что не от яркого света.
— Не советуешься с людьми, беспокоишься о своем авторитете, а он у тебя не особенно велик. Люди исполнительны, верно, но это результат дисциплины и их сознательности. Авторитет руководителю создает умение сочетать помощь с требовательностью. Если он только помогает — он «помогалкин», если только требует — «погонялкин». А у тебя теперь два любимых слова: «объективщина» и «приказываю»! Мы, руководители, должны устранять объективные причины, чтобы людям даже ссылаться было не на что. Вот на Украине мне один рабочий как-то ответил: «Хиба ревуть волы, як ясла повни?» Ты вспомни товарища Серго — его первый вопрос был: чем помочь? И помогал, даже больше давал, чем попросишь, но зато и требовал…
Большие стенные часы глухо пробили четыре. Нарком посмотрел на свои.
— По-московскому два, а мы с тобой даже последних известий не слушали, — сказал он и позвонил в диспетчерскую: — Что там по радио? — Выслушал, чуть-чуть улыбнулся. — Наступают наши по-прежнему? — И снова поднял на директора усталые глаза.
— Ты еще одно забыл. Руководителя любить должны, тогда люди работают вдвое инициативнее. А тебя… тебя не любят на заводе, хотя ты и очень много сделал здесь. Ты не понял, что коллектив — это большая семья, а разве от главы семьи требуется только кормить и одевать? Разве ты и дома такой: пришел, деньги на стол — и все? Ведь нет же. И детей приласкаешь, и жене теплое слово скажешь. Так и коллективу нужны и теплое слово, и ласка. А от тебя это кто-нибудь видел? Ты заботишься обо всех вообще и ни о ком в частности.
Нарком зажег давно потухшую папиросу. Ротов потянулся к портсигару.
— Понимаю, дел у тебя очень много. Но вспомни Владимира Ильича: в двадцать первом году, когда так же решался вопрос, быть нам или не быть, он находил время написать записочку Семашко с просьбой подобрать крестьянину-ходоку… очки. Нашел же время и написать и проверить. Да только ли это… А ты не находишь времени, чтобы хоть одному человеку в день сказать теплое слово. Ведь народ у нас какой!.. Позаботься о человеке, согрей его дружеским участием, он и на работе, и с женой, и с соседями поделится, — одного согрей — и другим теплее станет. А у тебя наоборот получается. Обругаешь одного, обидишь — вот он и заражает плохим настроением окружающих.
Нарком умолк, и Ротов с облегчением подумал: «Кончилось!» Но он ошибся.
— И как ты не можешь понять одного, — сказал нарком, внезапно подняв глаза на директора, — время сейчас военное, ждать, пока ты перевоспитаешься, не когда. Такие характеры, как твой, ломать нужно.
Закрыв за собой дверь квартиры, Крайнев вышел на улицу, спокойный и сосредоточенный.
Мысли были заняты одним: как лучше выполнить задуманное?
В «дежурке» он принял рапорт от старшего полицая, отдал несколько распоряжений, чтобы создать видимость служебного рвения, и прошел на завод.
Вот и станция, ступеньки, дверь. Караульный вызывает начальника караула, тот — начальника охраны станции. Этот последний наконец разрешает Крайневу войти, но следует за ним неотступно. Крайнев проходит в контору и с подчеркнутым вниманием начинает просматривать списки рабочих. Начальник охраны, пожилой, худощавый немец, сидит и нетерпеливо курит. Потом они идут осматривать станцию.
В машинном зале все по-прежнему. Одиноко стоит фундамент главного генератора, мерно гудит уцелевший «смертник». Только количество красных лампочек, горящих на щите, очень невелико. У пульта управления двое — сонный немец в пенсне на длинном понуром носу и русский рабочий в комбинезоне. Оба с удивлением смотрят на Крайнева, — посторонние русские здесь в диковину.
Продолжая методически «проверять» станцию, Крайнев в сопровождении немца спускается вниз по лестнице, к нише в бетонном фундаменте генератора, — на стене до сих пор виден крестик, поставленный Бровиным.
Волнение охватывает Крайнева.
Вот и люк, прикрывающий вход в кабельный канал. Сергей Петрович подзывает двух рабочих и приказывает им поднять люк. Те с трудом при помощи ломов поднимают чугунную плиту.
Послав рабочего за фонарем, Крайнев бросает лом в отверстие и внутренне содрогается.
Глухой звук напоминает ему шахту, где погиб отец.
«Не повезло семье, — думает он. — Отец погиб от белых, сын — от немцев. А Вадимка?» — И чувство бешеной ненависти к врагам овладевает им.
— Да скорее же! — зло кричит он на рабочего, который не спеша несет фонарь. — Бери с собой лом.
Втроем они спускаются в канал. Впереди рабочий, потом Крайнев, за ним, недовольно сопя, немец, который никак не может попять, что нужно неугомонному русскому в этом холодном и сыром склепе, но пунктуально выполняет распоряжение ни на секунду не оставлять начальника охраны одного.
Крайнев знает, что произойдет дальше. Он подойдет к выложенной Лобачевым стене, рабочий разломает кладку и уйдет. А потом, потом нужно ударом пистолета оглушить немца, достать шнуры, зажечь их, вставить в проделанное отверстие и бежать.
«Стоит ли бежать?» — задает он себе вопрос и сам понимает, что стоит. Уйти от смерти все равно не удастся, но стоять и смотреть, как огонь пожирает фитиль, и отсчитывать последние секунды своей жизни слишком трудно.
Так они доходят до конца канала, рабочий поднимает фонарь, и Сергей Петрович столбенеет.
Стена разобрана, аммонита нет.
Это удар неожиданный и сильный. Не обернувшись на своего соглядатая, Крайнев начинает медленно подыматься по лестнице. Наверху он сразу же направляется к выходу. Немец смотрит ему вслед, удивляясь тому, как он не заметил раньше, что этот русский пьян.
Сергей Петрович бредет по заводу, не разбирая дороги. Не все ли равно, куда идти?
Он приходит в себя только за проходными воротами.
«Что делать, что же теперь делать?» — в отчаянии думает он.
…Ночью кто-то сильно тормошит Крайнева и чуть ли не сталкивает его с дивана. Он с трудом открывает глаза, узнав Теплову, тяжело поднимается и садится.
— Что случилось? — спрашивает она, пытливо вглядываясь в измученное лицо Крайнева, — таким она никогда его не видела. — Почему не взорвана станция? — Тон у нее сухой, деловитый.
— Жить захотелось, — отвечает он зло, желая почему-то причинить боль и ей, но тотчас жалеет об этом.
Валя недоверчиво качает головой.
— Это же неправда, Сергей Петрович, — произносит она мягко. — Рассказывайте, что случилось.
— Немцы хитрее, чем я думал, — отвечает он почему-то шепотом и рассказывает ей все.
Валентина долго молчит.
— Что же вы наделали в механическом цехе? — говорит она с отчаянием. — Что вы наделали? Разве можно было так действовать?
— Валя, спросите у Сердюка, как мне быть дальше, — неожиданно спокойно говорит Крайнев. — Я ничего сам не могу придумать. Надо же как-то кончать эту комедию с моей службой у немцев.
Валентина чувствует, как ему тяжело, но не находит слов, чтобы его успокоить. У нее и у самой не легче на душе.
На другой день Крайнев явился на завод поздно. Принимая рапорт от старшего полицая, он услышал чей-то вопль.
— В караулке порют, — сказал полицай, отвечая на его недоуменный взгляд.
— Кого порют? За что порют?
— Как за что? — переспросил полицай, удивленный неосведомленностью начальника. — За все порют: за зажигалки, за гребешки, — а разве на триста граммов проживешь? Ну, а в проходной задержат «с товаром» и порют. Сначала к хозяину водили, а теперь таксу установили, за что сколько полагается, и порют.
Сергей Петрович вошел в караулку.
В узком, темном помещении с единственным окном во двор стояла скамья, и на ней, накрытый мокрым брезентом, с привязанными руками и ногами, извивался под ударами плети паренек. В короткие промежутки между ударами он поднимал голову и кричал, но каждый раз от удара ронял ее снова на скамью, и кровь выступала у него изо рта.
Но самое страшное, что увидел Крайнев, было лицо немца. Оно не выражало ни злобы, ни жестокости. Совершенно спокойно, методически, словно рубил дрова, он стегал извивающееся под брезентом тело.
— Отставить! — в бешенстве заорал Крайнев, но палач, мельком взглянув на него, снова ударил рабочего.