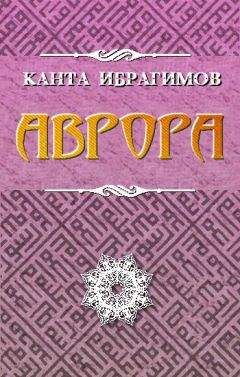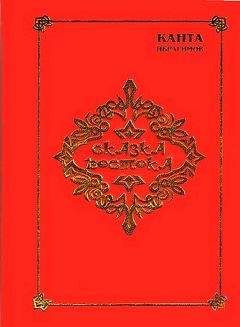Ознакомительная версия.
— Сможем, сможем, процедил Шамсадов, на ощупь, не торопясь, он нашел опору для одной ноги и другой нанес изо всех сил удар. — И те, и те — твои, лети к своим, стукач.
В это время снизу, сквозь рев вертолета, доносились редкие автоматные выстрелы, слабый взрыв. Потом луч света скользнул по расщелине, где притаился Малхаз, и туда же полетели пули. Однако учителя истории они задеть не могли — расщелина шла вкривь и вкось. Тем не менее это заставило его еще быстрее карабкаться вверх, да чем выше — тем труднее двигаться дальше, слишком скользко и темно, и сил у него нет, очень слаб, задыхается. Так и встал Малхаз на полпути, найдя какой-то выступ, где с трудом удерживался, переминаясь с ноги на ногу. И вряд ли он долго выдержал бы, к тому же повалил густой мокрый снег и стало совсем скользко, да, к радости, рев вертолета усилился и вскоре удалился, совсем исчез и стало тихо, мирно, и учителю истории казалось, что он даже слышит, как ложится снег, прикрывая все гадости прошедшего земного дня.
Не легче, чем подъем, был спуск. У родника раскуроченные машины, несколько трупов. Влажный снег, кое-где, особенно на увядшей траве и кустах, уже не таял, оставлял заманчивые белоснежные островки.
Изнуряющий событиями день так вымотал Шамсадова, что он не мог и не хотел больше думать, ноги подкашивались, еле держали.
Не таясь, лишь обходя от бессилия подъемы, он направился к родному селу. Вскоре запахло терпким дымом чинары, очагом; из-за пелены щедро падающего снега манящими маячками выступили редкие очажки керосинок в окнах; лаяли собаки, у кого-то мычал голодный теленок.
После первой войны у Малхаза своего дома не было, но какое счастье было иметь родное село, где почти каждый дом как свой.
Зная, что Эстери у Бозаевых, а к сватам по чеченским традициям ему еще идти рано, учитель истории направился в первый же дом, к дальним родственникам.
Быстро накрыли стол, много спрашивали, о чем-то рассказывали, но Малхаз только чуть-чуть поел, обессиленный повалился на нары; больше он ничего не мог, и ничего не хотел, он хотел только спать.
…Не страшный, но тяжелый, угнетающе-корящий сон пробудил учителя истории. Он был весь в холодном поту и долго не мог понять — где он, сколько спал и где есть реальность, а где наваждение или иллюзия бытия.
Желая покоя и сна, он вновь, теперь уже с головою, полез под толстое одеяло; и приятная истома уже овладевала им, как то же ощущение, правда более явственно, овладело не только его дремотным сознанием, но даже стало давить физически на все избитое, усталое тело. Ему с ужасом казалось, что его заживо погребают, и не в землю, в какую-то грязь из цемента, железобетона, пыли, а кругом ползают какие-то твари.
Резко отбросив одеяло, Малхаз вскочил. Кругом незнакомый мрак, и лишь проем окна манит фосфоритовым излучением.
«Ана! — прошибло током его сознание. — Это она мучается в пыльном подвале школы, среди мышей и сырости железобетона… И какая измена, какой позор! Ведь кроме него еще с десяток человек знают, что тубус там».
В темноте на ощупь отыскал он свою верхнюю одежду, обувь; тихо-тихо покинул приютивший дом. А на улице свежо, свободно; все белым-бело, и еще падает плавно крупный, щедрый снег.
Оставляя неровный темный след, Шамсадов побежал к школе. Дверь на замке, значит директор была в школе, она без этого не может — каждый день Бозаева навещает это здание, хранит очаг знаний, знает, что только этот очаг осветит путь народа в будущее…
У Шамсадова свой ключ спрятан в потайном месте, у крыльца. Вначале он пошел в кабинет истории, ставший ему и Эстери жильем. Нашел фонарь, да по ходу в подвал, увидев, что батарейки окончательно сели, вернулся за керосиновой лампой и спичками.
Его сердце екнуло, остановилось, и может быть, не застучало бы впредь, если бы, еще глубже пошарив, он не нащупал округлость тубуса.
Из осторожности, чтобы не дай Бог, не заметили огонек из окон школы, здесь же, в подвале, учитель истории решил мельком, хотя бы глазом, проверить бесценное содержимое тубуса.
Второпях не получилось. Он давно не раскрывал тубус, и теперь, разложив две картины на холодном цементном полу, в неровно мерцающем свете керосиновой лампы, его даже не взгляд, а внимание полностью приковали к себе два изображения — и будто один укоризненный взгляд, этот издалека несущийся несокрушимый твердый характер.
— Ана, ты недовольна мной?.. Ну что я должен делать? — стоя на коленях, жалобно прошептал учитель истории. — Не замуровал я тебя в подвал, так получилось… всякие дела… Ну, да, и женился… Может, не вовремя, а может, ты меня ревнуешь? — виновато улыбнулся он, однако увидев суровый взгляд с картин, потупился. — Ну что мне делать, все так непросто. Наверное, в твое время такого и не бывало: изверги, чтобы поработить весь мир, такое оружие напридумывали, такие лекарства и всякого рода ухищрения понасоздавали, что противостоять им, а тем более бороться — просто невозможно.
— Гу-у-у-у! — вдруг что-то утробно завыло, и вроде древняя картина с краешка, будто от дуновения, колыхнулась.
Мистику учитель истории якобы не признает, хочет думать, что это ветер в вентиляционной трубе завыл, да от этого не легче, выстоянный дух тысячелетнего творения до озноба повеял на него с неимоверным укором, с гневом и ответственностью перед историей, внушая стойкость, призывая к разуму, требуя борьбы в созидании, в упорном труде.
— Ну что, что мне делать? — еще ниже склонившись, дрожа, залепетал Шамсадов, признавая свою слабость в процессе истории.
— Гу-у-у-у! — еще тягостней, могильным эхом завыло в подвале, так что пламя в керосиновой лампе колыхнулось, едва не погасло и, озарившись вновь, явственно осветило, как вновь шелохнулся согнутый угол древней картины.
Это явное или воображаемое движение холста или тени на холсте привлекло испуганный взгляд Шамсадова. Он, наверное, впервые так близко, так пристально глянул на потрескавшийся от времени, уже разлагающийся край картины, где, он думал, стоит автограф древнего художника, а там четко, на латинском то, что он сказал в беспамятстве после укола — «Bojna-Teha», и рядом тот же знак, как на схеме, — отражающийся от поверхности луч.
— Дела[38]! — прошептал Малхаз. — Ведь этот ублюдок Дугуев к счастью не знает чеченского языка. «Бойна» — не надломанное, а просто — «занавес»… Как я раньше не догадался?! Схема?! Надо посмотреть схему.
Он тут же, прямо на полотне древней картины, разложил истрескавшийся, покореженный с краев кусок древнейшей кожи: спору нет — на ней, только крупнее и явственнее, тот же знак и та же фраза.
— «Бойна-тIехьа»! — ликующе воскликнул учитель истории. Я сейчас не помню точно где, но эту скалу мне в детстве дед показывал… Да, лишь припоминаю, это красивейшее, изумительное место на границе Черных и альпийских гор, с богатейшей контрастной флорой, однако дед там пасеку не ставил, говорил, что быть там нельзя, особенно мужчинам. Издревле там было царство амазонок. А «Бойна-тIехьа» — огромная полусферическая скала, и почему-то на ней мало растительности и явственно видно, что эта скала из какой-то иной, более твердой породы, нежели окружающие ее горы. А название — «занавес» она получила оттого, что эта странно созданная самой природой скала полностью укрывала от солнечных лучей некогда существовавшее там озеро — «Мехкари-ам»[39]. И только раз в году, в дни весеннего солнцестояния, туда могли проникать солнечные лучи, и именно в эти два-три дня туда могли приходить мужчины на свидания с амазонками. И если мужчина вместе с уходом из ущелья солнечных лучей не удалялся, а оставался с амазонками, то он подвергался жестокому наказанию — вскоре терял мужскую силу и плоть, и даже после этого покинув запретное место, этот мужчина долго не выживал, чах на глазах, вскоре умирал в страшных муках… А амазонки после этих свиданий рожали детей; дочерей оставляли себе, а мальчиков при очередном свидании отдавали мужчинам, и, расставаясь с младенцами, они так плакали, что от их слез образовалось это кристально чистое высокогорное озеро.
— И дед рассказывал мне, вслух, все вспоминая, анализировал учитель истории, что предание гласит: последней амазонкой была Ана Аланская-Аргунская, и она тоже из-за какой-то важной тайны и ради своего народа вынуждена была расстаться с единственным сыном, но не навсегда, на два солнцестояния, когда в обмен на сохранность великой тайны она должна была получить взамен сына… Не два солнцестояния, а гораздо больше прождала Ана, наполняя озеро слезами, да сбылись проклятия ее бабушки: иссяк род амазонок, не увидала Ана больше своего сына. Говорят, видели ее охотники в последний раз плачущей у озера, Ана была уже совсем худой, болезненной, печальной. От помощи охотников она отказалась, советовала впредь, особенно мужчинам, здесь не бывать и тем более не задерживаться; проклятие последней царицы амазонок здесь витало. Правда, оставила она весет[40]: «Рано или поздно — сюда, за великой Тайной цивилизации — должны прийти очень влиятельные чужестранцы. Эта Тайна не наша, и она нам не нужна. Эта Тайна принадлежит якобы им, и благодаря этой Тайне эти люди, а их немного, обладают господством и влиянием, и одновременно из-за этой же Тайны они и впредь будут подвергаться гонениям и презрению, если к живой или к мертвой не доставят ко мне моего сына, если живую или мертвую не поцелует меня мой сын, не приласкает, а потом с сыновним трепетом, скорбью и любовью не захоронит, как положено, предав родной земле… Таков был уговор. Только после этого я раскрою Тайну и сниму проклятие с этих всегда вроде бы могущественных, но несчастных людей…».
Ознакомительная версия.