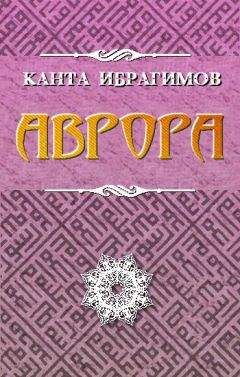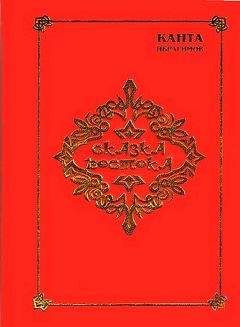Ознакомительная версия.
— Ю-ю-у-у! — совсем не таким, как прежде, а очень жалобным, скорбным свистом что-то завыло в подвале.
Содрогнувшись, съежившись от страха и озноба, учитель истории встревоженно огляделся кругом, и его взгляд почему-то устремился вверх: на темно-сером неровном железобетонном потолке застыли крупные капельки, и все они, словно догорающие звездочки, слабо мерцают от керосинового огня, навязчиво образуя видимость мрачной угасающей темени подземного небосвода.
— Ана, знаю, ты где-то в подземелье или в пещере уже тысячу лет вызволения ждешь, — сжимая на груди руки, горячо задышал учитель истории. — Скоро, очень скоро я тебя найду… Вот только где же эта скала? Ведь озера уже давно нет. После тебя оно иссохло или утекло… Стариков, знающих местность, в живых не осталось, после депортации потерялась связь времен… Ту скалу я, может быть, и узнаю, помню, на ней мало было растительности. Да и это сейчас не поможет — все снегом замело… Может, дождемся весны? Что три-четыре месяца, если более тысячи лет и зим ты ждала?!
— Ю-ю-у-у-у! — еще жалобнее и тоньше перекатным угасающим эхом пронеслась осязаемая сырая волна по подвалу.
И прямо на глазах учителя истории крупная капелька влаги не удержалась на скользком, холодном бетоне потолка, стремительно, со странным свистящим шумом полетела вниз и вонзилась, оставляя мизерные брызги, прямо на лицо древнего портрета.
— Ой, Боже мой! — воскликнул учитель истории. — Это ведь редчайший, древнейший шедевр!
Он потянулся к полотну, хотел побыстрее убрать влагу, но она уже впиталась, поглотилась трещинами краски, и, как случилось на новой картине, здесь тоже создался вид, что Ана плачет и текут слезы.
— Ю-ю-у-у! — совсем как немощная старушка жалобно выл подвал.
— Понял, Ана. Прости, прости! — чуть ли не кричал теперь Шамсадов. — Ни дня ждать не буду, ни часа, ни секунды. Сейчас же перенесу тебя из этого грязного, вонючего подвала в родовую пещеру Нарт-Корт — там тебя древние кавказские богатыри будут оберегать, а я с утра пойду в горы на поиски.
Зимняя ночь в горах Кавказа еще не прошла. Было очень тихо, страшно, и даже рева водопада и лая собак не слышно. И все так же щедро шел снег, когда учитель истории, бережно сжимая под мышкой дорогой тубус, покидал родное село, с хрустом проваливаясь по щиколотку в уже промерзший, твердый снег, оставляя уходящий в горы, как в историю древнего Кавказа, заплетающийся, тут же укрываемый новым снегом неясный, еле видимый и вроде никому не нужный одинокий след…
* * *
Зачастую человек склонен думать: что-либо плохое может случиться с кем угодно — только не с ним. Вот так и Малхаз думал. Он-то и летом, в сухую погоду по узкой, коварной горной тропе с превеликим трудом добирался до породненной пещеры Нарт-Корт, а тут, ни о чем не заботясь, даже позабыв, что идет война, сквозь густой снегопад и кромешную ночь решился вновь схоронить понадежнее бесценный тубус. Он был уверен, что Ана благоволит ему.
Так и случилось. Запрятав в пещере тубус, Шамсадов удачно преодолел обратный путь и с запоздалой зимней зарей подходил к селу, планируя, что увидится с Эстери, а потом, плюнув на все, соберет необходимое в горах снаряжение и в это же утро двинется в горы на поиски скалы Бойна-тIехьа. Он уже намечал и первоначальный маршрут поиска, как прямо на окраине села грубый голос на русском крикнул:
— Стоять! Руки вверх! Лечь на землю! Быстрее! — разрыхляя под ногами снег, перед ногами прошлась автоматная очередь.
Застигнутый врасплох учитель истории стал, как вкопанный. Несколько теней в белых маскхалатах моментально окружили его, больно скрутив за спиной руки, накинули на голову мешок и, тыкая чем-то острым в бока, быстро куда-то повели.
Они преодолели два подъема и два спуска, вброд пересекли ледяную речку и углубились в лес. И хотя Шамсадов ничего не видел, оттого часто падал, получая пинки, он примерно знал, куда они шли, узнал место, где ему приказали лечь лицом на землю, и даже понял, что где-то рядом американский доктор — еще разило знакомым слащавым одеколоном.
— А этот откуда? — ткнули Шамсадова сапогом.
— Не знаем, у села на рассвете взяли… Так, на всякий случай.
— Приготовить всех, скоро прибудет борт.
С Шамсадова сняли мешок, заставили сесть. Обнаружив в кармане загранпаспорт, присвистнули:
— Ты смотри, метр с кепкой, а весь свет объездил.
— А может, он с ними? Знаешь кого из них?
Шамсадов исподлобья глянул на таких же, как он, сидящих на снегу в ряд: Штайнбаха, доктора и еще троих-четверых узнал, еще человек шесть-семь были незнакомые чеченцы.
— Нет, тихо промолвил учитель истории.
— А кто его знает?
Ответ был тот же.
— Ладно, на базе разберемся.
Когда послышался гул вертолета, к командиру российских десантников, который стоял возле Шамсадова, подошел радист.
— Может, этого не возьмем, указал он на Малхаза, и так перегруз?
— Да что там — его бараний вес, грузи всех.
На борту вертолета пленные лежали вповалку, и хилый учитель истории никак не мог потеснить крупные тела, а его позвоночник от долгого неестественного искривления нестерпимым током пробивал все тело так, что ядовитые круги поплыли перед глазами; он не мог сдержать стоны, порой орал, чуть ли не перекрикивая гул моторов, и наверное, будь полет еще дольше, он испустил бы дух. Примерно через час они приземлились на военной базе, которая располагалась уже в полупустынной местности, видимо, за пределами Чечни.
Пленных построили в ряд и долго так держали, вероятно, ждали, пока прибудет начальство.
Шамсадов был с краю; возникшая накануне боль в позвоночнике переместилась в таз, и левая нога буквально не подчинялась ему; он еле стоял под порывами свирепого ветра. Здесь, очевидно, тоже выпал снег, однако на обледенелом песчаном грунте не удержался, только в лощинах и в неровностях едва белел, образуя змеевидные поземки.
Наконец прибыли несколько военных машин, БТРы; началось оживление.
— Вот он!
Первым из строя вывели российского журналиста, что был в отряде Штайнбаха.
— Самохвалов Андрей Викторович, ответил на вопрос полковника журналист.
И как его начали бить, и только сапогами.
— Не смейте! Это негуманно, бесчеловечно! — закричал американский доктор, за что тоже получил, но не так, как журналист, а только до полусмерти.
Следом настала очередь здоровенного, выше Штайнбаха, чеченца, как послышалось Малхазу, известного полевого командира. Этого чеченца тоже до устали били сапогами; проверили — еще живой. Деревьев здесь не было, да и зачем, модернизация: привязали ноги к разным БТРам: как и отца Аны, Алтазура, тысячу лет назад — казнили.
От этого действа не только Шамсадов, но и кадровый военный Штайнбах упал рядом с все еще корчившимся доктором и, истошно крича, стал вырыгивать.
Видимо, этих зрелищ было достаточно. Пленных поделили на две группы, Шамсадова, вместе с другими чеченцами, поместили в полуподвальный железобетонный бункер.
Этот покой не принес Малхазу облегчения; всю ночь он не спал, страдал от нестерпимой боли в области таза. А наутро он не смог выйти, не только заболела, но буквально отнялась левая нога.
— Этого зачем привезли? — возмущался один офицер. — Надо было там оставить. Кто с ним здесь возиться будет?
— Да он притворяется.
— Непохоже, смотри, весь желтый стал… Уберите его обратно.
Буквально волоком Шамсадова утащили обратно в холодный, сырой бункер, кинули на железобетонный пол. От боли он скулил, слезы наворачивались на глаза, и он не имел сил доползти хотя бы до нар: нижние конечности парализовало, малейшее движение доставляло жгучую боль, а найти удобную позу тоже невозможно.
Лишь через сутки вновь вспомнили о Шамсадове. Молоденький интеллигентный капитан заполнил анкету, уходя, тихо сказал:
— Я принесу Вам кое-какой еды и постараюсь доставить врача.
Через час капитан вернулся. Воровато достал из кармана нарезанные куски хлеба, сыр, колбасу и даже плитку шоколада.
— А воды можно? — взмолился Шамсадов.
— Да-да, не подумал, извинялся капитан, и как бы про себя. — Что за дикость, какое варварство!
Так всухомятку капитан кормил Шамсадова еще пару дней и, словно оправдываясь, говорил:
— Вас позабыли, и благодарите за это судьбу… А врач будет, я уже договорился… Поверьте, мне все это непросто…
Однако ни врача, ни самого капитана Малхаз больше не увидел. По маленькому обрешеченному окошку в потолке он тупо следил, как меняются день и ночь, иногда в бессилии кричал, а в ответ только изредка слышал рев проходящей мимо техники.
Так прошло несколько дней, и Малхаз понял, что ужаснее всего на свете жажда, затем голод, далее — свобода, и только после этого телесная боль. Все это было, и осталось только последнее — не дышать, и он уже подумывал, как бы повеситься или придушить себя, до того доходило его сознание, и он впадал в обморочное состояние. А придя в себя, вновь хотел жить и ползал вдоль бетонных стен, до кровоточия языка слизывал капельки испарений.
Ознакомительная версия.