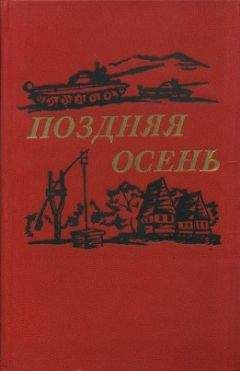— Училки вели себя хорошо, — улыбнулась Илинка, — оставили меня в покое и не задавали провокационных вопросов…
Кристиана строго взглянула на дочь. Ее раздражало — и Илинка знала об этом, — что в последнее время речь дочери пестрела жаргонными словечками. Она считала, что та употребляет их где надо и не надо, и это может быть истолковано как неуважительное отношение к окружающим.
— Я тебя просила следить за своей речью! — Кристиана и на этот раз не могла удержаться от выговора. — Ты же знаешь, что я не люблю эти уличные выражения! А то поссоримся всерьез!
Зазвонил телефон. Кристиана вытерла руки о передник и поспешила в столовую, где стоял полевой телефон, соединяющий квартиру с частью. Услышав ее голос, Думитру сказал радостно, но с оттенком упрека:
— Наконец-то вернулась! Я уж не знал, что и думать — то ли стало дурно, то ли решила разобрать все дела, которые сегодня рассматривают в суде. — Он засмеялся собственной шутке. — Захотелось наверстать упущенное?..
— Извини, что я заставила тебя волноваться. Я хотела тебе позвонить сразу по возвращении, но занялась делами…
— Ладно, поговорим дома. — Тон его стал деловым. — Мы немного задержимся сегодня на работе. Здесь у меня подполковник Михалаш и капитан Тэнэсеску… Вот он, только что вошел в кабинет.
— И капитан Тэнэсеску с вами? — удивилась Кристиана. — Смотри, жены на тебя в суд подадут, — шутливо пригрозила она. — А если обратятся ко мне, то я же первая и напишу жалобу!
— Ладно, ладно, не очень-то я боюсь твоих жалоб, — засмеялся Думитру. — Кстати, Тэнэсеску остается с нами вовсе не по приказу, а потому, что его тоже волнуют дела в части… Наша смена. — Он снова засмеялся. — Через несколько лет, когда придет время передавать эстафету, новые кадры должны быть готовы…
Кристиану удивили его слова. Она чуть не спросила: «И ты в самом деле веришь, что наступит день, когда тебе достанет твердости самому подать в отставку и жить, не чувствуя на своих плечах бремени должности командира части?..» Однако она поняла, что вопрос был бы болезненным для Думитру, тем более в присутствии капитана Тэнэсеску, и она промолчала, положила трубку и вернулась в кухню.
Илинка ждала ее. Как обычно, она тут же пожалела, что рассердила мать, и теперь искала примирения. Она дочистила картошку и стала мыть ее. Кристиана не обратила на это никакого внимания и захлопотала у плиты. Открыла дверку, помешала в печи кочергой, затем подбросила уголь, который тут же вспыхнул, разбрасывая во все стороны искры.
— Мамочка, ты знаешь Жоржиану, правда? — спросила вдруг Илинка так, будто между ними не было неприятного разговора. — Дочь доктора Дорнеску, помнишь?
— Думаю, что да, — ответила Кристиана, давая понять, что больше не сердится. — Кажется, вы когда-то сидели за одной партой?
— Это было в самом начале, когда я только приехала сюда из Бухареста. — Илинка почему-то растягивала слова. — Несколько дней, пока ее соседка по парте не ходила в школу. Ну так слушай. Выходим мы сегодня из школы вместе с Жоржианой, и я никак не могу понять, зачем это она меня провожает до автовокзала и даже ждет вместе со мной, пока не приходит мой автобус. И вообрази, что же оказалось. Она схватила тройку по географии, а когда с ней такое случается, она, чтобы не получить взбучки от матери, не идет прямо домой, а специально болтается просто по улицам. По два, по три часа. Мать начинает нервничать. Она вообще строгая и не дает ей воли… Ну как бы тебе сказать… Психованная! — выпалила Илинка, убежденная, что подобрала термин, точно характеризующий темперамент матери Жоржианы.
— Илинка, что за выражения! — воскликнула Кристиана.
Она начала мыть посуду — это была самая неприятная работа в условиях Синешти, где все время приходилось подогревать воду на печи и разливать ее по тазам.
— Извини, мамочка, но не прерывай меня на самом интересном месте, прошу тебя! Итак, — продолжила она свой сенсационный рассказ, — эта чокнутая мамаша начинает лезть на стенку…
— Что?! — На минуту Кристиана даже остолбенела, но не выдержала и расхохоталась: эта девчонка просто неисправима…
— Ну вот… — протянула Илинка, скрывая свое смущение. Она даже покраснела, Кристиана отметила это про себя и решила ей лишний раз не выговаривать.
— Ну так вот, мать Жоржианы каждый раз пугается и. представь себе, звонит отцу на работу и заставляет беднягу справляться обо всех несчастных случаях в городе, а сама плачет от отчаяния. Подумать только, что эта сцена разыгрывается каждый раз, когда Жоржиана выкидывает такие номера! Конечно, это случается не слишком часто, но все же… Вообще-то она учится хорошо, но ведь каждый может схватить плохую отметку, все мы люди, верно?
— Слушай, — спросила Кристиана, — как это ей не надоедает разыгрывать каждый раз тот же самый спектакль?
— Что ни говори, это умная тактика! — Илинка не скрывала своего восхищения.
— Только для слабонервных, моя дорогая! Думаю, что на меня едва ли произвело бы впечатление подобное представление — оно в дурном вкусе! Во всяком случае, не советую тебе поддаваться соблазну попробовать…
— Ну вот, мамочка, — обиделась Илинка, — а мне-то это зачем?
— Ладно, не обижайся. — Кристиана решила на всякий случай выяснить, не связан ли рассказ о Жоржиане с отметками собственной дочери. — Скажи-ка лучше, как у тебя с уроками? Успеваешь?
— Ничего, — ушла Илинка от прямого ответа и тут же возмутилась: — Эти училки ужасны! Каждая думает, что нам нечего больше делать, как только учить ее предмет — «самый важный, самый нужный»! Задают и устно, и письменно, а если так по каждому предмету, — заключила она, — то просто не остается ни одной свободной минуты!
— Нечего жаловаться, ты не первый день в школе, — заметила Кристиана. — Сама же теряешь время на пустяки.
Илинка притворно надулась и ушла в свою комнату готовить уроки.
Оставшись одна, Кристиана вымыла посуду, вытерла ее и поставила в кухонный буфет. Потом надела свой самый толстый свитер, связанный специально для здешних морозов, и пошла выплеснуть воду, оставшуюся после мойки посуды. Стоило открыть дверь, как сразу в лицо ей ударила волна обжигающего холода, тут же устремившаяся в глубь дома.
Кристиана вернулась озябшая, от мороза у нее перехватило дыхание. Она остановилась у печки погреться. На дворе завывал ветер.
«Ветер трогает толкую струну» — вспомнилось ей. Так говорила мать Думитру.
Мыслями она невольно обратилась к этой одинокой старой женщине, которая так за них волновалась, так хотела, чтобы у них был свой дом…
Ей захотелось написать письмо старушке. Думитру некогда, он вечно занят. «Домашняя канцелярия», какой шутливо выражался, по его поручению находилась в ее ведении. Но кроме того, она любила писать свекрови. Она детально описывала ей всякие семейные мелочи, Илинкины дела в школе, писала о разных разностях, услышанных от жен офицеров и старшин, которые забегали к ней поболтать. Письма получались длинными — по пять-шесть страниц, и старушка им очень радовалась. «Будто я рядом с вами, будто вижу и слышу вас! Вот я и счастлива, что мне еще надо…»
Для Кристианы эти слова были истинной наградой. Она с нетерпением каждый раз ждала ответа. Знала, что это будет всего несколько слов, выведенных дрожащей старческой рукой, огромные буквы на тетрадном листе… Сколько усилии прикладывала старушка, чтобы сдержать дрожь в руке, непривычной к письму! Поэтому Кристиану так трогали эти строки. А может быть, еще потому, что после смерти собственной матери у нее не осталось близкого человека, кроме этой старушки, перед которым она продолжала бы чувствовать себя ребенком, который бы волновался за нее, как настоящая мать…
«Наверное, все люди испытывают иногда потребность продлить ощущение детства. Ведь это возможность хотя бы на какое-то время сбросить с себя груз ответственности, избавиться от бремени забот и обязанностей…» Она хотела спросить об этом Думитру, но тут же раздумала. Он мог ей ответить только одно: что его не гнетет бремя ответственности, забот и обязанностей, что уважения достоин только человек, который все делает сознательно и ответственно. Только это делает человека счастливым.
«Я заметила, — сказала она ему все-таки однажды, — что люди считают себя и считаются молодыми независимо от возраста до тех пор, пока сами чувствуют себя детьми, то есть пока рядом с ними родители, старики. Стоит им умереть, как мы сами становимся старшими в доме, и иллюзия нашей молодости исчезает… Уходя от нас, единственные свидетели нашего детства уносят с собой самый ценный подарок, который они нам сделали, — детство… Наверное, поэтому остающаяся после них пустота так угнетает…»
… Она писала, изредка останавливаясь, чтобы послушать завывание ветра в дымоходе; казалось, вихрь вот-вот закружит ее вместе со всем домом в своей неистовой пляске… Об этом диком ветре, о здешних снежных зимах она никогда не писала, чтобы не пугать старушку напрасно, не прибавлять ей волнений. Ей хотелось не тревожить ее, а радовать.