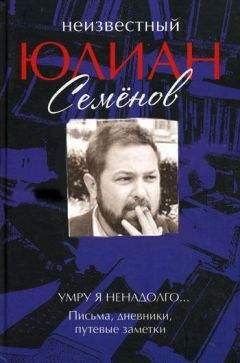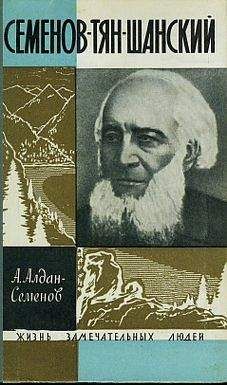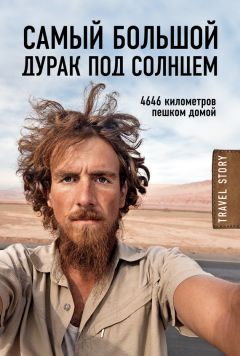Через два месяца службы в учебке в условиях тотального, невообразимого воровства предметов формы, я овладел этим высоким искусством. Если ночью тайком пробираться в окошко чужой казармы, то все время существует риск быть застигнутым и побитым. Кроме того, этот способ тайного похищения имущества имеет тот недостаток, что ты его совершаешь в то золотое время, которое Распорядок отпускает тебя для сна. Времени для сна и так никогда не хватает и курсанты задремывают даже во время занятий, а тут ты сам у себя урезаешь время. Следовательно, воровать нужно днем и, желательно, у всех на виду: чтоб легче было затеряться в толпе.
Делалось это так:
В Первом городке напротив учебного корпуса стоял «автобатовский» туалет, который пользовался самой дурной и жуткой репутацией среди курсантов. Туалет этот был закреплен за учебным автомобильным батальоном, от которого и пошло его название. Курсанты автобата должны были следить за порядком в нем и там всегда находились трое дневальных. Они следили, чтобы опорожнение происходило с максимальным попаданием в очки и решительно требовали от промахнувшихся сгрести наложенные мимо очка фекалии точно в центр мишени. Чувствуя себя в туалете полными хозяевами, они освобождали заходивших поодиночке курсантов от ремней и панам, поэтому в этот туалет старались попадать организованно, как на экскурсию, в составе взвода или отделения.
В Ашхабаде летом жарко. Обычная форма для курсанта днем — форма номер два, если, разумеется, рота не идет в столовую. Вот эту-то форму номер два, с голым торсом, я и решил взять себе в союзники. Петлицы с эмблемами оставались на хэбэшке, сложенной в классе, и определить из какой именно я учебки не представлялось возможным: в городке десять тысяч курсантов и все лысые, все в одинаковой форме. Я с голым торсом заходил в туалет, вставал к очку, делая вид, что оправляюсь и как паук ждал свою жертву. Вскоре появлялся какой-нибудь чурбан, обожравшийся перловки. Он присаживался на корточки возле соседнего очка, я дожидался, пока он закряхтит, после этого, клал свою ладонь ему на голову, двумя пальцами зажимал панаму и изо всех сил толкал его в очко. Растяпа, естественно, проваливался туда всей задницей и я не спеша уходил с чужой панамой на голове. Торопиться мне было некуда: пока потерпевший выкарабкается из очка, пока вымоет задницу от того, в чем она оказалась — много воды утечет.
Зато — панама при мне, а меня — ищи ветра в поле!
С ремнями и флягами дело было еще проще:
На спортгородке, как правило, занимался не один какой-то взвод, а взводов восемь из разных учебок. Хэбэшки взвода были уложены на скамейку, на которой оставался сидеть один курсант, зорко стерегущий форму своих товарищей. Я подходил к этому курсанту и просил прикурить. Хэбэшки с петлицами на мне, естественно, не было. Ну а кто откажет дать прикурить? Могут отказать дать закурить, но спичек — жалко ли? Прикуривая, я задавал вопрос, который при встрече всегда задают друг другу солдаты, не знакомые между собой: «откуда родом?». Дальше следовал примерно такой разговор:
— Из Липецка, — отвечал мне охранник.
— Ух ты! Ну ни фига себе! — как можно искренней радовался я, — а я ведь тоже из Липецка. Земляки, значит!
— Правда? — охранник не верил своему счастью, — а ты с самого Липецка или с области?
В Липецкой области я не знал ни одного населенного пункта, кроме Липецка, так как никогда в тех краях не был и где она находится, представлял весьма приблизительно: где-то там… западней Мордовии… точно — не за Уралом.
— С самого! — радостно кивал я.
— И я с самого! — еще радостней подхватывал мой новый «земляк», — а ты в какой школе учился?
— В третьей, — наобум говорил я, полагая, что в городе Липецке наверняка больше двух школ.
— А на какой улице жил? — продолжал меня пытать «земляк».
— На Советской.
Советская улица есть в любом советской городе. Тут мой расчет был верный. Дальше шел разговор, воспоминания про «общих знакомых», про дискотеки. Мое дело было только сочувственно кивать и поддакивать — «земеля» сам все расскажет. Увлекшись беседой, мой «земляк» не замечал, что я уже сижу рядом с ним и как бы в рассеянности кручу в руках пряжку чужого ремня, как бы невзначай опоясываюсь им и застегиваю его на себе. Чтобы отвести глаза я сообщаю, что в этой учебке жутко воруют и что все время нужно быть на чеку.
— А ты где служишь? — спрашивал облапошенный «земляк», когда я, прощаясь, подаю ему руку.
— В зенитчиках, — отвечал я, показывая на казарму саперов, — заходи вечером, чайку попьем. Мне матушка посылку прислала.
И вот на мне уже чужой ремень и фляжка, от которой через минуту я оторву бирку с фамилией прежнего владельца и моя добыча будет спрятана в недрах учебного класса пятого взвода второй роты учебного батальона связи.
Нет, нисколько меня не мучила совесть за тот ночной налет на продсклад!
Я — солдат, следовательно — себе не принадлежу. Я не могу пойди туда, куда мне хочется и тем более, не могу делать то, что мне нравится. Я ограничен во всем: в деньгах, в свободном времени, в возможности выбора себе друзей, в передвижении. Мне даже нельзя самому выбирать в чем мне ходить по полку: в трико или в махровом халате. Не спрашивая моего мнения мне и миллионам мне подобных Министерство Обороны определило: хэбэ. С утра до ночи — хэбэ. Все два года — хэбэ установленного образца: зимой с пятью пуговицами и крючком на воротнике, летом — с четырьмя пуговицами и отложным воротником. Вот скину хэбэшку, одену гражданское, встану на учет в военкомате — вот тогда я и начну отвечать за свои поступки «по всей строгости советских законов». А пока я буду прислушиваться к солдатской мудрости: «солдат должен иметь наглую морду, крепкий желудок и ни капли совести». Пока я в форме — я буду жить по армейским законам, а не по общечеловеческим. И пусть за меня отвечают мои командиры.
Они умнее.
Они дольше меня служат, они носят звезды, они привыкли командовать.
Вот пусть они и отвечают.
А мне положено отвечать только тогда, когда меня спрашивают. А спрашивать моего мнения может только проверяющий на строевом смотре, но и он ждет от меня одного единственного правильного ответа на любой поставленный вопрос: «Младший сержант Сёмин. Жалоб и заявлений не имею».
На что жаловаться? О чем заявлять? Все в порядке — служба продолжается! Сегодня мне опять заступать в наряд и меня ожидает очередная бессонная ночь.
Ну и что, что бессонная? Так даже интереснее. Полк живет не только дневной жизнью, но и ночной, и еще вопрос: в какое время суток большие дела делаются? Склад, кстати, мы тоже не средь бела дня грабанули. И деды не обязательно ночами бражку пьют в каптерках: есть дела поважнее пьянки И на офицеров на наших батальонных что-то бессонница напала.
Часов в одиннадцать пришел Скубиев:
— Не спишь, Сэмэн?
— Не положено, товарищ капитан.
— Я слышал, ты в шахматы играть умеешь?
Игрок я, конечно, еще тот, но комбата два раза обыграл. Правда, комбат во время игры думал не о шахматах, а о своем, мужском и командирском, но результат есть результат. Не проиграл же я ему?
— Я, товарищ капитан, без интереса не играю.
— А какой твой интерес? — оживился Скубиев.
— Банка Si-Si и пачка «Принца Альберта».
— Идет. Расставляй.
Скубиев играл неплохо. Просто я был в состоянии душевного подъема, которое у людей творческих называется вдохновением. После того, как мы среди ночи «из ниоткуда» раздобыли тушенку и сгущенку, ко мне пришла уверенность, что мы с моим призывом можем вообще — всё! А кружка «Дракона», выпитая после доклада дежурному по полку, придала дополнительный импульс полету моих мыслей. Казалось, что я вижу доску и фигуры насквозь и ходов на шесть вперед просчитываю ходы соперника. На восемнадцатом ходу Скубиев получил мат.
— Мат, товарищ капитан, — радостно показал я на доску.
— Вижу. Теперь я — белыми.
— Как прикажете. На что играем?
— На «Хам».
«Хам» — китайская тушенка в конических баночках, которые открываются не сверху, а сбоку: на специальный ключ наматывается узкая полоска жести от банки и банка открывается. Дороговатая вещь. Не для солдатского меню.
Зашел и комбат.
«Вот им не спится по ночам! Мне бы разрешили, так я бы часов шестнадцать продрых без задних ног!».
— Играете? — спросил он нас.
— Да вот, Владимир Васильевич, — пояснил Скубиев, — дерет меня младший сержант и в хвост и в гриву.
Баценков глянул на доску, оценивая позицию:
— Я с победителем, — занял он очередь.
Скубиев побарахтался еще минут десять, но мои пешки упорно продвигались в ферзи. Белые пожертвовали коня, потом ладью, но третья пешка все-таки достигла первой горизонтали и перевес в силах стал колоссальным. Я с чувством превосходства посмотрел на капитана.