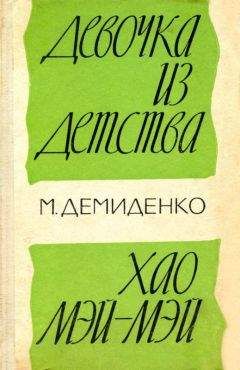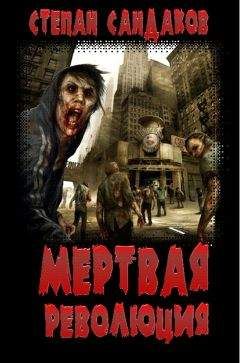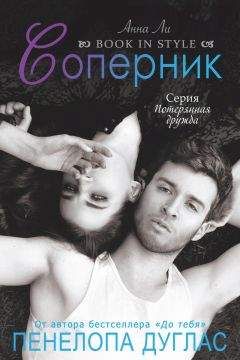Жили, мы на первом этаже. Этаж был высоким, выше человеческого роста. На тротуаре перед окнами стоял молодой красноармеец. Лицо у него было красным. Лицо простецкое, гимнастерка сидела мешком, брезентовый пояс под животом, как веревочка. Пилотки на парне не было, белые, коротко остриженные волосы стояли торчком. На левой ноге не было обмотки, из большого солдатского башмака торчал уголок портянки. Винтовки тоже не было. Он стоял один на всю улицу, как сирота.
— Тетя, дай испить! — попросил он и виновато улыбнулся.
Тетя Клара посмотрела на него, как вождь с трибуны. И спросила с вызовом:
— Вы кто такой?
— Я? — переспросил красноармеец.
— Да, да… Вы самый…
Красноармеец вздохнул, подумал, точно решая, стоит ли говорить строгой тетке правду и не будет ли это разглашением военной тайны, и, решив, видно, что не будет, объявил:
— Андрей я… по фамилии Золототрубов.
— Андрей, значит?
— Да, Андрей Иванович. Я издалека… Аж оттуда. Галошино, слышали, может быть? Большое село.
— Где же ваша обмотка, Андрей Золототрубов?
— Эта, да? — поднял левую ногу красноармеец.
— Она самая…
Андрей Иванович опять задумался, посмотрел внимательно на ногу, сплюнул с презрением:
— Потерял.
— Что вы говорите? А где же ваша пилотка?
— Пилотка? Тоже… Где-то… Там…
— А где же ваша винтовка, где личное оружие, защитник Отечества? — повысила голос тетя Клара. Лицо ее покрылось пятнами; казалось, что еще минута, и она взорвется от возмущения.
— Поставил, — беззлобно пояснил боец.
— Куда?
— К стене.
— Зачем же, позвольте вас спросить?
— Чтоб не мешала.
— Не мешала? Слышали, что он сказал? Ему мешала винтовка! Понимаете? — зашлась тетя Клара. Ей не хватало воздуха. — Винтовка ему мешала. Чем мешала? Тем, что из нее нужно стрелять по врагам Отечества?
— Чего стрелять? Из винтовки в самолет? Он же высоко, не попасть. — Боец посмотрел на нас с сожалением: неразумные люди, что с ними попусту балясы точить.
— Вы обязаны были стрелять! Присягу принимали. Клялись! Что вы обязаны были делать в минуту опасности для Отечества?
— Стучать.
— По башке своей дурацкой?
— По рельсу.
Видя, что тетка не понимает, он пояснил:
— Когда самолет, я обязан стучать. Они должны прибежать, но никто не пришел. Ни карнач, ни помкарнач… Тут немец… Ну, я того… Винтовку к стене и поставил. Стучал по рельсу.
— Испугались?..
— Страшно, тетя, твоя правда. Баки… С бензином. Я же в МТС работал, понимаю. Бак-то выше вашего дома, их там… Как рванет с того краю. Э-э-э… прямо море полилось, и горит. Я чесать… От чесал, от чесал, галуха! — Красноармеец засмеялся беззлобно, точно вспомнил самое смешное в жизни.
— Потом с нашего края почало, — продолжал вспоминать он. — Тоже как даст… Я чесать, я чесать. Да на бугор. Бензин за мной. Да поджаривает, да поджаривает. Упал бы — точно изжарился бы, тетя, правда, не вру.
— Ах, так… Вон как, — смутилась тетя Клара и посмотрела на бойца уже иначе, с сочувствием. — Тогда конечно… Ремень-то хоть подтяни. Что ж у тебя ремень, как супонь у лошади, под брюхом?
— Я бы рад, да как?
Солдат протянул к нам вверх — свои руки. Мы отшатнулись с Рогдаем: руки у красноармейца Андрея Ивановича Золототрубова были в волдырях от ожогов. И как он мог стоять, разговаривать, терпеть жуткую боль? Что это? Невероятное терпение или равнодушие к своим мукам? Может, безнадежность? Спокойное лицо, и еще шутил над своими злоключениями…
— Ой, мама! — ужаснулась тетя Клара. Она растерялась. — Господи, что же ты молчал! Ой, дорогой мой! Да что же я стою? Господи! Молчал. Сердечный мой!
Она бросилась на кухню, принесла воды… Но солдат не мог взять кружки.
Она побежала коридорами, выбежала на улицу…
Он так и пил, как безрукий, из руки тети Клары. Вода текла по его лицу, по груди. Он выпил, попросил еще. Мы побежали, забыв про осколки стекла, принесли целый чайник.
Пил воду Андрей Иванович долго, основательно и, когда напился, утолил жажду, сказал с благодарностью:
— Теперь легче… До свиданьица!
— Куда же ты, Андрюша? — встрепенулась тетя Клара. Ей было жалко бойца, стыдно за свою строгость, иронический тон.
— Видела, небось, как ночью светило? — вздохнул боец. — Это бензин тек, горел. Тысячи рублей спалили. Чистое представление. Тушили пакгаузы, все сгорело. Рису мешками, шпалы, сена было прессованного… Все прахом! Меня и послали на пожарку. А пожарка-то сама, — улыбнулся Андрей Иванович, — сгорела. От галуха! Мы к ней за помощью, а она сама. Ну, спасибо, тетя, я пошел.
— Куда же ты?
— Туда… Прогорит ведь, меня не сняли с поста. Прогорит, я там должен быть. Может, винтовку найду, может, целая осталась. Попадет… За пилотку, за обмотку, чтоб ей! Чуть через нее не лишился жизни. Размоталась… Побегай в них, чтоб им! Как путы! Командир наш строг, до чего строгий, ну до чего строгий, самый главный.
Он вздохнул, видно вспомнив строгого командира, постоял в растерянности, потом повернулся и пошел по улице, стуча подковками по булыжникам.
Улицу точно умыло утром, и она была безмятежная, мирная, как поле, на котором зреет хлеб.
в которой рассказывается о продавщице Маруське и старинных романсах.
В восемь часов вместо утренней зарядки объявили воздушную тревогу.
Мы успели схватить мамино пальто, платье, меховую шапочку, в которой она ходила на каток, еще я сунул шарф в узелок.
— Фотографии не забудьте! Документы! Где документы? — напоминала тетя Клара. — Самое главное — не потерять документы. Пошли, пойдемте, пошли… Ну, что еще там?
Рогдай вылез из-под кровати, вытащил за шнурки ботинки. Пока он обувался прямо на полу, тетя Клара взяла лист бумаги, написала карандашом: «Мы в подвале», — приколола бумагу к шкафу.
Подвал Дома артистов раньше был перегорожен клетушками, в клетушках стояли бочки с мочеными яблоками, солеными арбузами, квашеной капустой, сюда ссыпали на зиму картошку, теперь стояли зеленые садовые скамейки, на них сидели люди. Народу набилось — с нашего дома, с соседних, просто с улицы прохожие…
— Какая глупость, — сказала женщина в белом зимнем платке. — Как я не догадалась уйти ночью на Придачу к сестре? Надо было уходить…
— Слышали, — сказала шепотом старушка, косясь на двух военных, — на Кировской улице сгорел дом, в доме был детский сад…
— Добро нужно закапывать, — сказал кто-то в темном углу.
— На Кировской подряд все спалили…
— Какая глупость, примус забыла выключить! — вспомнила женщина в белом платке.
Мы уселись у входа. Пригляделись. Бомбоубежище чем-то напоминало вокзал, когда в нем сидят пассажиры и ждут поезда. Ожиданье на лицах, тревога. Так же скучно детям, они норовят пройтись, посмотреть, поиграть с другими детьми, но матери не отпускают их от себя, отвешивают шлепки, вразумляют — момент ответственный, скоро поезд подадут к перрону.
— Пойти, что ли, примус выключить? — сказала безнадежно женщина в платке.
— Как дети малые! — отозвался кто-то. — Город горит, она о примусе печется.
Я увидел тетю Любу, Василису Прекрасную из ТЮЗа. Тетя Люба сидела на раскладном стульчике, поглядывала почему-то на часы, рядом стояла прислоненная к стене гитара в сером чехле. Видно, тетя Люба ничего другого не успела захватить с собой в бомбоубежище, потому что тревогу объявили, когда бомбежка уже началась.
— Вчера мужчина с крыши свалился, — вспомнила старушка.
— Пьяный, что ли?
— Кто знает…
— И чего мелят! — сказала тетя Люба. — Взрывной волной сбросило. Вот сплетницы!
— Убило?
— Руку и ногу сломало, — пояснила тетя Люба.
— Кого же это с крыши-то спихнуло?
— Дерябина, из драматического. Гримера… Дерябина.
— Разве его в армию не призвали? Разве у него броня?
— У него язва желудка…
— И ногу сломало?..
— И руку тоже…
— Повезло человеку, — отозвался кто-то в темном углу.
— Бабка, есть хотим! — вдруг в один голос завопили сестры-близнецы Людка и Любка. Они жили на втором этаже, в восьмидесятом номере. Мать у них была контрабасистка в симфоническом оркестре областной филармонии. Девчонки были капризные, вредные и горластые.
— Бабка, дай хлеба! Есть хотим!
— Некрасиво говорить: «Бабка!» — не смогла утерпеть тетя Клара. — Невежливо… Нужно говорить: «Бабушка».
— Сама вредная карга, — ответили сестры-близнецы Людка и Любка. И заревели: — Хлеба дай, бабка! Есть хотим!
— Вот сегодняшнее воспитание, — сказал кто-то в темном углу.
Женщины заволновались: оказывается, никто не ходил вчера за хлебом.
— Талоны по карточкам обязательно пропадут, — сказала женщина в белом платке. — И сахар не отоварят. Глупость невероятная…


![Николай Печерский - Важный разговор [Повести, рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/205932/205932.jpg)