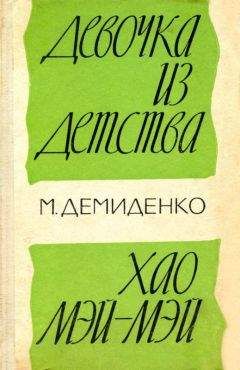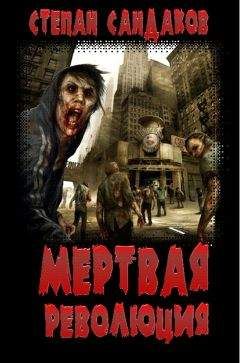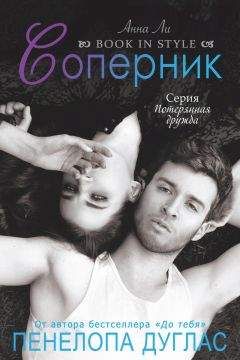И тут я увидел ноги дяди Вани, и мысли у меня оборвались, застопорились, потому что я обалдел, меня оглушило увиденное — на дяде Ване, на его ногах, на ногах нашего дворника, были знакомые кирзовые сапоги с потрескавшимся верхом, с каблуками, стоптанными внутрь… Я видел из-под кровати эти сапоги в нашей комнате.
Это он приходил. Он взял мамин свитер, папин костюм, рылся в комнате тети Клары, разыскивал серьги, дутый золотой браслет. Он!..
Наверное, нужно было закричать, что он ворюга, но я не смог закричать, потому что первый раз в жизни увидел настоящего грабителя. Не какого-то там чужого, а своего, нашего дядю Ваню. Пока я соображал, что к чему, завелся мотор трехтонки.
— Мальчик, показывай, куда ехать!
Ехали мы медленно — посредине улицы валялись телефонные столбы, сучья с деревьев. На перекрестках высматривали, куда сворачивать, потому что на некоторых улицах дома горели с двух сторон и посредине мостовой пузырился асфальт. Шофер беспрерывно сигналил. Люди бежали, шли, катили тачки и не обращали внимания на машину.
Трехтонка пересекла проспект Революции, проехала к Каменному мосту, спустилась под него. Проехали мимо домика портного, который когда-то шил отцу костюм. Здесь было тихо. За зелеными заборами тянулись деревянные домики, ставни на домах были закрыты. Пригороды немец не трогал.
в которой рассказывается о курдючных овцах и танке Т-34.
Центр Воронежа на бугре. От центра к Чернавскому мосту ведет широкий Петровский спуск, мощенный гранитной брусчаткой. Здесь ходил трамвайный вагончик под номером три, трамвай с прицепом не смог бы подняться по крутому склону Петровского спуска.
Трехтонка выехала к мосту с боковой улицы и остановилась. У моста бурлила пробка из подвод, грузовиков и тачек. Машина уперлась в отару овец. Каким образом овцы оказались здесь, было совершенно непонятно. Овцы блеяли, сбившись в жучу; каждая овца норовила забраться в середину отары.
У чабана в руках была длинная крючковатая палка, на голове — танкистский шлем. Он спорил с военным, у военного на рукаве красовалась повязка с буквой «Р».
— С самой Украины! — кричал чабан громче, чем блеяли овцы. — Це ж опытная порода. В Москве медаль золотую сробили. Шоб тебе, геть! Геть! — Он огрел крючковатой палкой овцу, которая прыгнула на спину своим подругам.
— Разуй глаза, рукосуй, — шипел в ответ регулировщик сорванным голосом. — Люди же ждут. Армия ждет, а он со своими жвачными.
— Хиба вона идет? Червона Армия, — запричитал чабан. — Це ж вона тикае. А ты бачь, який курдюк гарный! Глянь, хлопец!
Чабан вприпрыжку подбежал к отаре, оттащил первую попавшуюся овцу, зажал ее между ног, положил ее хвост на ладонь, как рыбак окуня.
— Глянь, ось який курдюк!
— Ото курдюк? — переспросил боец. — Собачий хвост, не курдюк. Сто граммов грязи и шерсти… Курдюк — когда сзади на тележке катится. Медаль ему… Деревянную — и то много.
— Тебе тикать через усю Россию, у тебе теж буде нема сала, — обиделся чабан. Он еще раз посмотрел на овцу и вдруг дал ей такого пинка, что она влетела в середину отары.
Чабан оперся на палку, выражение лица у него стало вялым, безразличным, точно теперь ему стало все равно, что бы ни произошло, раз никто не верит про золотую медаль, полученную на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Я высунулся из кабины, оглянулся на город. Тополя… Из-за их ветвей не было видно домов на горе. Там, вверху, остался мой город. Все! Кончено! Прощай, Дом артистов, прощай, тридцать четвертая школа!
Я заплакал. Я сидел на коленях у военврача и боялся, что он увидит слезы.
— Молодой человек, — сказал спокойно военврач. — Прогуляемся?
Он открыл дверцу. Я спрыгнул на землю. Военврач встал на подножку, заглянул в кузов, спросил:
— Фролов, как самочувствие? Фролов?
В кузове молчали. У кабинки стоял Рогдай, тоже смотрел вверх на город.
— Мальчик, — позвал военврач, — сбегай за водой.
Я припустил в гору, к ближайшему домику. Помню, что дом был номер два. Цифра написана на эмалированной табличке над воротами. Я постучал в калитку. Никто не ответил. Я забарабанил ногой. Тоже тихо. Тогда я полез через забор.
От ворот шла дорожка, посыпанная речным песком. Я подошел к крыльцу, постоял минутку, постучал.
— Чего басурманишь? — раздалось сбоку, со стеклянной веранды. Там стояла старушка.
— Ну-ка, дай воды! — грубо сказал я.
— Вода внизу.
— Чего внизу?
— Колонка с водой внизу, на улице. Подними ручку и напьешься, чем через забор лазить.
— Не твое дело, — сказал я. Я был очень злой в этот момент, потому что подумал: «Бабка дожидается, когда придет враг».
— Ваши тоже уходят? — спросила старушка.
— Не твое дело!
— Мои-то ушли, — сказала она. — Я-то побоялась идти — ноги больные. И куда идти? Помру по дороге. Страшно сидеть одной. Постой, басурман, не лезь через забор, открой калитку-то. Ладно, иди сюда, напою. Ой, басурман, ой, басурман!..
— Я не себе, я для раненого, — сказал я.
— Где же он, раненый твой? Куда ты его дел, басурман?
— Тут! Машина застряла. Ему плохо стало. Воды приказали принести.
Старушка заторопилась к калитке. Она шла по дорожке, хватаясь руками за стану дома. Я отбросил щеколду, которой затворялась калитка, распахнул калитку и сбежал с бугорка вниз, к водопроводной колонке, чтобы наполнить флягу водой.
Военврач был в кузове, он держал шприц в руке — видно, только что сделал укол Фролову.
Приковыляла старушка.
— Начальник, оставь его мне, — предложила она.
— А если придут? — Военврач кивнул в сторону города.
— Скажу: племянник. Как звать-то?
— Илья… Фролов.
— Чего попусту брехать? — заволновалась старушка. — Берите его, несите прямо в дом. Будем на пару куковать, полторы калеки с половиной. Люди, люди, стойте, идите сюда, подсобите в дом отнести.
Подошли какие-то женщины, сложили у машины котомки, открыли борт машины, осторожно сняли Фролова, понесли на шинели в дом старушки.
Со стороны Петровского спуска донесся рык мотора. Легкораненые, что сидели вдоль бортов, вскочили на ноги, заволновались.
— Танки! — сказал кто-то из них.
Мимо проходила группа красноармейцев во главе с сержантом.
— Танки! — закричал сержант, и бойцы рассыпались вдоль канавы.
У моста тоже услышали лязг гусениц. Люди куда-то побежали. Я увидел зенитное орудие, оно стояло за трамвайным павильоном. Ствол у него дрогнул, медленно упал вниз, одновременно разворачиваясь в сторону Петровского спуска. Но по тому, как по спуску катился поток беженцев, можно было догадаться, что идет наш танк, — не было паники. Она возникла через несколько минут, когда со стороны Гусиновки выскочили два немецких штурмовика.
— Лапотники! — закричали раненые. — Лапотники!
Позднее я узнал, что это были Ю-87 — легкие бомбардировщики. А «лапотниками» их прозвали потому, что у них не убирались шасси, на шасси были обтекатели, напоминающие лапти. С включенными сиренами «лапотники» ушли к мосту, сбросили бомбы. С бугра, и с той стороны реки, и сбоку застучали зенитные пулеметы, залаяли скорострельные пушки; люди побежали к домам, к водосточной канаве. Настоящее столпотворение… На нашей машине тоже закричали раненые, и кто-то из них, весь в бинтах, прыгнул через борт.
Танк Т-34 метнулся в сторону, но неудачно — левая гусеница у него соскочила, раскатилась, как свернутый ремень, и танк завертелся юлой, сдирая брусчатку до земли.
И тут произошло такое, что я запомнил на всю жизнь, как прощание с отцом на Курском вокзале, когда ему приказали садиться в вагон.
Открылся люк танка, из «стального гроба» выскочили, как чертики из шкатулки, четыре танкиста. Молодые парни в синих комбинезонах. Не знаю, что их напугало и почему они побежали, пригнувшись, петляя, как зайцы, к мосту. Видно, общая паника и неразбериха, то, что называется «стадным чувством», подействовали на их нервы. Мне тоже захотелось броситься спасаться от самолетов.
Военврач вцепился мертвой хваткой в мое плечо.
— Подлецы! — кричал он. — Машину бросить! Трусы! Таких я никогда не буду оперировать…
Мост стал голым, его проезжая часть блестела, как лысина. Вокруг моста было пусто, не считая, конечно, брошенных тачек и узлов. Кто-то рассыпал помидоры. Люди при эвакуации мало что соображают. Хватают, что попадется под руку, дельное оставляют, хватают ерунду. Какому дураку, например, взбрело в голову тащить с собой помидоры?
Потом на — мосту ощутилось движение, кто-то двинулся по мосту. Это оказались овцы. Впереди них шел чабан с лохматым, как сто папах, бараном на плечах. Баран свесил ноги и голову, не брыкался и не блеял; он уже, видно, привык к подобному способу передвижения. Овцы бежали следом, склонив головы, чтобы не смотреть по сторонам. Куда поведут, туда, значит, и надо идти, только бы не смотреть по сторонам, ничего не видеть, а то увидишь и помрешь со страху.


![Николай Печерский - Важный разговор [Повести, рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/205932/205932.jpg)