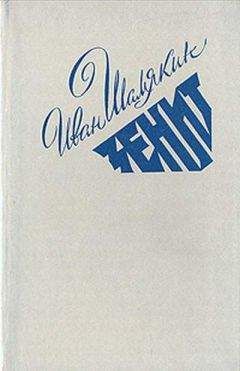— Ты посмотри, что там!
— А что? Здание станции.
— А на здании что?
— Где? Над дверью — флаг.
— О боже! И флаг! Я и не увидела флага! Посмотри, какой он! Красно-белый.
— Польский, да?
— Польский! Польский, Павел! Но название! Посмотри, что написали на стене!
На торцовой глухой стене красного здания аршинными неровными белыми буквами написано название станции. Вероятно, немцы переименовали ее — сверху, над крышей, торчал ржавый каркас вывески.
Прочитав каждую букву отдельно, я произнес что-то нескладное, несуразное.
Ванда засмеялась.
— Кжыжовец! Кжыжовец! Как звучит! Как звучит! Я выглянула из теплушки… прочитала… И едва сознание не потеряла, Павел! Ты не знаешь. Я от самого Полоцка не сплю. Я боялась проспать встречу с землей моих предков. Как я рада, что встретила так. В такое утро! И никто мне не помешал…
— Я не помешал?
— Нет, нет. Я довольна, что ты увидел мою встречу, Павлик. Ты должен знать… — Ванда сделала паузу, словно задумалась — что я должен знать? — Мою верность… земле этой… земле той, где я родилась и выросла… И… и… тебе…
— Ванда, не говори красиво.
— Ты сухарь, Павлик. Ты сухарь. Схимник. Как твой замполит. Дай платочек. У тебя нет платочка? Недотепа ты мой! Я сделаю тебе сотню платочков.
Сыпала слова как горох, смеялась и дрожала вся от возбуждения и холода. Я оглянулся на вагон. Тужников стоял все так же у окна, не сводя с нас глаз. Что было бы мне, подставь я Ванде платочек под ее горсть гравия?! Счастье, что замполиту не стукнуло перейти к открывающемуся окну — перевели его в летнее состояние закаленные в Заполярье любители свежего воздуха. Услышав наш разговор, какие политические выводы он сделал бы? Я взял Ванду за локоть:
— Пошли.
— Куда?
— Туда, — показал я на станцию.
Тогда она тоже глянула на наш вагон, увидела нахмуренного Тужникова, снова засмеялась и чуть ли не вприпрыжку двинулась вдоль длинного состава.
— Ты умница, Павлик.
— То сухарь, то умница?
— Мне захотелось показать ему язык.
— Кому?
— Комиссару.
— Осчастливила бы ты меня.
— Я подарю тебе счастье, любимый мой! Знал бы ты, какое счастье! Не обращай внимания на язык мой. В сердце мое загляни. У меня золотое сердце, Павел.
— Самое ненадежное.
— А тебе какое нужно — железное? Чтоб ржавело? Дурак!
Вот так всю дорогу — то «любимый», то «дурак».
В дивизионе, благодаря Вандиному языку, считали нас женихом и невестой и с большим интересом наблюдали наши необычные отношения. Между прочим, последнюю неделю мы почти не разговаривали — Ванда злилась на меня.
…Стояли на каком-то разъезде. Послушали по радиоприемнику «От Советского Информбюро». Наши войска вышли к Одеру, захватили плацдарм на западном берегу. До Берлина восемьдесят километров. Всего восемьдесят!
Мария Алексеевна расплакалась от радости, слушая взволнованно-торжественный голос Левитана.
Офицеры — все стратеги! — спорили о сроках штурма фашистского логова, о планах ближайших операций, некоторые с такой уверенностью и апломбом, будто были по меньшей мере адъютантами Жукова. А я пошел по теплушкам рассказывать бойцам последние новости. Начал с дальних и уже довольно поздно, чуть ли не после отбоя — хотя какой отбой в дороге? — заглянул в теплушку, где командовала Ванда. Меня всюду встречали хорошо — в дороге все полюбили политинформации, даже те, кто обычно увиливал от них. Но особенное пристрастие у меня было к этой теплушке. Мужчин размещали побатарейно. Девчат же Муравьев, составлявший экспозицию размещения в эшелоне, перемешал небездумно, точно знал, что впереди долгая дорога. В этом вагоне ехали прибористки первой батареи, обслуга СОН, телефонистки штаба. Самые образованные девушки.
«Антилегентки», — с некоторой ревностью обзывали их малограмотные «деды». С этими девчатами было интересно. И весело. С одной Вандой не заскучаешь. А там еще была хохотушка Таня Балашова и серьезные эрудитки Лика Иванистова и Женя Игнатьева. Теплушка за три дня так спелась — в прямом смысле, что на четвертый девчата дали концерт на большой станции, где их слушали не только свои, но и бойцы других эшелонов; раненые из санитарного поезда на костылях ковыляли к перрону, из городских землянок шли гражданские — женщины, дети. Скупой на доброе слово Тужников при мне посоветовал командиру объявить младшему лейтенанту Жмур благодарность в приказе по дивизиону.
Днем паровоз давал свистки: собирал людей, чтобы никто не отстал — за этим очень строго следили. А посреди ночи зачем людей будить, решил, видимо, дежуривший на паровозе офицер. И дрова явно хорошие были, пар нагнали. Состав тронулся плавно, сразу набрал скорость.
Обитатели теплушки весело зашумели:
«Девочки! Будем тянуть жребий — с кем комсорга уложим спать».
«Даст тебе Ванда жребий! С собой уложит».
«Балашова! Разговорчики! Снова будешь дневалить у печки».
«Товарищ младший лейтенант! Ложитесь между мной и Розой. Во нагреем — до конца зимы не остынете».
Хохот. Бесстыдницы. Только отпусти дисциплинарные вожжи — они тебя сразу захомутают. А «вожжи» — как их набросишь в такой ситуации? Даже Ванда и та растерялась: неловко командирскую власть употребить. Попробовала — не вышло. Таня очутилась около меня и на Вандину угрозу ответила с непозволительной фамильярностью:
«С Павликом готова дневалить хоть все ночи. Позволь!»
Ванда понимала: цыкни — и вызовешь огонь на себя. А я вообще на своей должности утратил командирскую строгость, за что неоднократно получал нагоняи от Тужникова. На мужчин еще мог повысить голос, ну а этих солдат умел только увещевать. Дураком, вроде Унярхи, выставил бы себя, скомандовав «Смирно!» в вагоне, посреди ночи. Сам же позволил им на беседе сидеть с расстегнутыми воротничками, без ремней. Некоторые, разувшись, забрались на верхние нары.
Ванда сменила тактику:
«Ладно… почесали языки, и хватит. Пора спать».
Девчата притихли: интересно все же, где она уложит меня?
«Кто у нас дневалит? Клава? Можешь спать. Мы с комсоргом посидим у печки».
«Хитрая!»
«На то она и полька!»
«Девчата! Вы меня выведете из терпения. — И строго приказала: — Отбой!»
Подошла к «летучей мыши», опустила фитиль, так что огонек едва выбивался. Теплушка утонула во мраке. Но затихла не скоро. Возбужденные радостной информацией и своими потаенными думами, не у всех веселыми, не утомленные физически — некоторые и днем спали, — трудно засыпали зенитчицы. Шептались, вздыхали, ворочались.
Стучали колеса на частых стыках порванных рельсов. Раскачивался, скрипел, как старый инвалид, вагон. На ходу быстро остывал. Ванда подбросила в «буржуйку» дров. Сквозь щели печки пробивалось пламя, отблесками мелькало на потолке, на стенах.
Мы сидели на чурках вдалеке друг от друга, по разные стороны раскалившейся, пышущей жаром печки. Молчали. Начни мы шептаться — сколько ушей навострится, о сне совсем забудут.
Я надеялся, что на следующей станции состав остановится. Не остановился.
Прошло неизвестно сколько времени. Начало клонить в сон. Я клевал носом и, посрамленный, вздрагивая, просыпался. Самый широкий отблеск через щель дверцы падал на Ванду, и я хорошо видел девушку. Она улыбалась мне бледными губами и огненно-искристыми от сполохов пламени глазами. Один раз сказала:
«Не спи».
В другой раз — почти иронически:
«Отодвинься от печки».
Бывает же такая напасть: когда не нужно, он одолевает, всемогущий сон. Наверное, я снова заснул, потому что не видел, когда Ванда села рядом. Услышал, что она обняла меня. Сон сразу отлетел. А она сказала:
«Спи, я буду держать тебя».
Какое там «спи»! Ничего себе рыцарь, заснувший в объятиях девушки! Хотел подняться, но Ванда не отпускала. Сообразила, что теперь мне не до сна.
«Поцелуй меня».
«Девчата…»
«Спят. Три часа ночи».
Повернул голову и деликатно прижался губами к ее щеке. Ванда тихо засмеялась:
«Разве так целуют? Ангелочек ты мой!»
Обхватила голову и впилась губами в мои губы. Целовала взасос. Задыхалась сама. Задыхался я.
Одна все же не спала и… тяжко вздохнула — от зависти или от девичьей тоски по любви?
Ванда отпустила мою голову и сказала почти вслух, деловито:
«Ложись спать, а то нос подпечешь. На мое место. Кажется, наконец поехали как люди».
Пусть та, вздыхающая, подумает, что поцелуй наш ей приснился.
Не добавляя в фонаре огня, Ванда за руку подвела меня к нарам:
— Вот здесь.
Место ее было на нижних нарах, крайнее, у стены. Еще в первый день дороги я обратил внимание, что, не в пример другим командирам, выбрала Ванда не самое теплое место — стены теплушек при сильных морозах промерзали настолько, что на них выступал иней. Растрогав заботой, предупредил ее, чтобы не простудилась. Однако по налаживанию жилья, быта девчата практичнее, чем даже запасники третьей категории — отцы семейств. Дня через два в Вандином вагоне стенки под нарами были утеплены соломенными матами. Где взяли — держали в секрете. Конечно, не украли — выпросили у бойцов чужого эшелона. Одна Таня Балашова может работать за трех цыганок — сам Данилов так пошутил на ее счет. Никто из нас не мог догадаться о назначении соломенных плетенок. Для утепления, ясно. Но чего, каких сооружений? А потом Ванда достала старое одеяло — тут уж Кумков расщедрился — и еще лучше утеплила свою постель. Смеялась: «Я как принцесса на горошине».