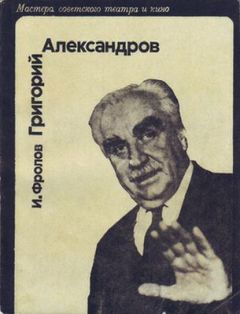– О Мише что говорить? Он и дом и рубаху отдаст. Конечно, места в твоей комнате не жалко. Только все это как-то необычно. Эх, Сани нету, посоветоваться бы с ним!..
– Мама, ты гений! Если бы Саша был, все бы без нас утряслось. Понимаешь?
– Ну что ты морочишь меня противоречиями?
– Ах, батюшки! Нет противоречий. Все хорошо. Поговорю с Мишей, а?
– Михаила тревожить не позволю. Я рада, что он успокоился, к семье приживается.
Действительно, Михаил все сильнее привязывался к семье, отдавая матери свою зарплату – всю, до последней копейки. На заводе сдружился со стариками, с одногодками отца. С ними проводил свободные вечера, слушая их рассказы о былой жизни. Потом записывал и, радуясь, говорил матери, что никогда он не был так счастлив, как теперь.
Любава сначала недоумевала, потом почувствовала, что сыну очень нужно все это, что он тянется всей душой к ней и к отцу.
Михаил сам понимал всю старомодность своего поведения – жить в его возрасте под началом родителей. Но ему после многолетней, чересчур свободной одинокой жизни нравилось теперь зависеть от родителей, и он сам усиливал эту зависимость, во всем советовался со стариками, перенимал их обычаи, привычки, взгляды на обиходные дела, на поступки людей. Чем глубже врастал он в жизнь семьи, пропитываясь своеобразной здоровой атмосферой этой жизни, тем постыднее ему было вспоминать свое прежнее поведение, свой беззастенчивый произвол в сокрушении «старых отношений» и установлении каких-то «новых отношений» между людьми.
Подобно тому как мерзлая земля медленно отходит весной и начинается в ней движение соков, оживают корни, так медленно прорастали в душе Михаила с детства впитанные, а потом забытые впечатления.
Иногда желание целиком принять сложившиеся формы «крупновского» бытия уводило его так далеко в старину, что даже мать дружески посмеивалась над ним.
В новогодний вечер, в шесть часов, пришла Вера. Вместе с Леной мыли полы. И тут Любовь Андриановна прямо-таки диву далась: хрупкая девчонка стремительно работала тряпкой, бегая с ведрами воды. Даже Лена не поспевала за ней. Перетряхнули на морозе половики, первыми сходили в баню, потом хлопотали над прическами, толкая друг друга, склоняя мокрые головы к рефлектору. Говорили намеками и все смеялись чему-то. Оделись в одинаковые, песочного цвета шерстяные платья с коричневой оторочкой. Насколько шло такое платье Вере, оттеняя матовую бледность ее лица, настолько не подходило Лене: слишком обнажало высокую, по-юношески худую шею. Но Лена не замечала недостатков, она не спускала восторженно-влюбленных глаз с подруги.
– Стоп, девчата! – Денис раскинул руки. – Чай попейте с нами, стариками, и тогда валяйте на вечер! Иначе замкну на ключ, продержу до конца года.
Женя, краснея, чуть не заикаясь, упрашивал свою новую учительницу, Веру Петровну, выпить за то, что он думает. Вера встала, взяла его под руку (он был вровень с ней), спросила тихо:
– О чем думаешь, Женя?
– Я… Вы круглая сирота, а я полукруглый. Люблю Мишу и люблю вас. И Лену. И мечтаю, чтобы все жили вот так вместе в нашем доме. И чтобы Саша и Федя.
Зашел почтальон, закуржавевший от мороза, сорвал с усов сосульки, красной окоченевшей рукой взял стопку и ловко плеснул водку в круглый, как у сазана, рот.
– Расписывайся, Денис Степанович, за телеграмму от самого Матвея! Как он там, в Германии с Гитлером-то? – говорил он, прожевывая старыми зубами колбасу. – А это письмо военное. Елене… Кто из вас тут Елена Прекрасная на сегодняшний день? – он окинул взглядом Веру, Лену. – Обе царевны! – Старик вдруг заговорил с воскресшей греховностью: – Бывалоча, писали и нам… присылали… Теперь что? Налей еще, Любовь Андриановна.
– Читай, читай до конца! – требовал отец от Лены. – Чего прячешь за спину-то? У Сани нет от нас секретов.
Лена обняла Веру, и они обе улетели в комнату родителей.
– Верка! Ты догадалась, да?
– Я почувствовала… Ну, давай же! Нет, нет, сейчас не буду читать, даю тебе слово, Леночка, у меня хватит выдержки, ты еще не знаешь, какая я волевая… – бормотала Вера. Но едва записка попала в ее руки, Вера выбежала во двор. При тускло сочившемся из заиндевелого окна свете прочитала: в короткой записке Александр называл ее «дорогим товарищем Верой».
От этого простого, сдержанного письма она размякла – так бывало в пору сиротского детства, когда кто-нибудь ненароком жалел ее. Прижала письмо к глазам. Дрожь била ее, когда она вошла в теплый дом.
– Эх, Лена, не хочется в театр! Мне хорошо, и никуда бы не ушла, – сказала Вера.
Но Лена набросила на нее пальто с барашковым воротником, и они вышли на улицу.
Подъезд театра расцвечен разноцветными лампочками. Толпилась молодежь, подъезжали автобусы и машины, привозившие девушек и парней из заводских районов.
Играл в зале духовой оркестр. У входа в фойе стоял медведь, приветливо покачивая добродушной головой, проверял пригласительные билеты. Фойе декорировано под пещеру. Здесь ходили разнообразные ряженые, и только краснощекая буфетчица странно выделялась своим человеческим лицом среди их фантастических масок.
Вера нарядилась Снегурочкой, Лена – Джульеттой. Поднялись в фойе второго этажа. Яркий свет ламп множился в зеркалах. Праздничный гул голосов, теплый воздух, пропитанный духами, люди в разнообразных костюмах героев мировой литературы, сказок и легенд – все призывало к беззаботности и веселью.
За ними увязались два парня. Лена кокетничала, смеялась, раздувая ноздри. Веру же напугало упорное ухаживание ее партнера по танцам, и она позвала подругу домой.
– Эх, домоседка! Иди одна, – ответила Лена.
Вера сдала костюм, вышла из театра. Она скорее испугалась, чем удивилась, когда, проехав на автобусе и сойдя на остановке, увидела парня.
– А, Снегурочка! Нам с вами по пути.
И он шел рядом с ней вдоль Волги, болтая о вечере. Она все больше удивлялась и пугалась, почему он увязался за ней. Вот и крупновский дом, ярко светятся окна в столовой. Вера свернула к калитке, быстро пошла к крыльцу, чувствуя спиной, что парень стоит и смотрит на нее. Суматошно постучалась в двери. Сени открыл Денис, пахло от него теплом и вином.
– А где наша прыгалка? – спросил он, пропуская Веру в сени. – А это кто там стоит?
– Денис Степанович, это я, ваш подручный. Шел домой, услышал ваш голос, думаю, дай поздравлю.
– Эх, парень, да ты, видно, крепко отпраздновал, с дороги сбился, дом-то твой совсем на другом конце.
Вере приятно было, что Денис упрекнул ее: «Бегаете по одной!» – и что потом, обняв тяжелыми руками, ввел в дом и снял с нее пальто.
– …Разве я могу связывать свою жизнь с кем бы то ни было, если сам не знаю, каким выйду из душевной перетряски? – услыхала Вера голос Михаила.
– Ну, вот видишь, Любовь Андриановна! – загудел набатный голос Макара Ясакова. – Кто в таком деле корни-то? Девка и парень. А мы листья. Соединятся корни – листва охотно пошумит на свадьбе.
Вера зашла в столовую. Юрий и Агафон Холодов о чем-то спорили. Марфа, еще больше раздобревшая после родов, накладывала в тарелки пельмени, поглядывая на Михаила сияющими глазами; он хмурился.
Изучая с начальником штаба документы маневров, Валентин Холодов наткнулся на фамилию сержанта Крупнова. В рапорте говорилось, что, действуя в составе разведотряда, отделение сержанта форсировало ночью речку и пленило штаб батальона.
«А ведь он, наверное, брат Леночки?» – подумал Холодов. С тех пор как расстался с Леной, он написал ей пять писем и два письма получил от нее. Он ясно сознавал, что переписка с семнадцатилетней девушкой налагает на него определенные моральные обязательства, и это радовало его. Без прежнего интереса писал он своему старику, тая от него новое, все усиливающееся увлечение. Происходившее в его душе было столь дорого, что о нем он не мог говорить даже с отцом, от которого обычно ничего не скрывал.
Он переписывался и с Верой Заплесковой, деловито и спокойно.
Захотелось повидать сержанта Крупнова. Он обратил внимание генерал-майора Сегеды на рапорт Богданова.
– Надо бы поговорить с этим сержантом, Остап Никитич.
Сегеда прикрыл желтыми веками крупные, как сливы, глаза.
– Погода установится, поезжай до Богданова.
Валентин отдернул штору: густо оседал мокрый снег, перед зданием штаба буксовала грузовая машина, по тротуару брели рабочие лесозавода, неся на сутулых плечах и шапках толстый слой снега.
– А если я сейчас же поеду? Правда, командующий вернется, будет ворчать.
Сегеда считал, что Чоборцов излишне опекает своего майора, держит сокола в клетке.
– Возьми вездеход и поезжай. Отвезешь приказ о новой дислокации дивизии. Горячий привет Богданычу!
Холодов, не дожидаясь обеда, в сопровождении двух автоматчиков выехал в крытом вездеходе на запад, в расположение Волжской дивизии Ростислава Богданова.