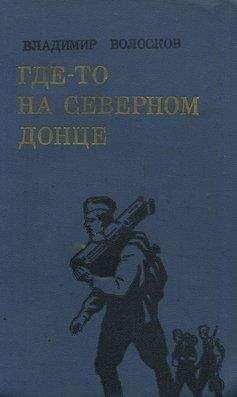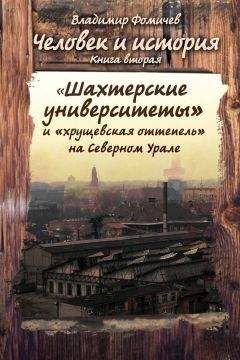А молодая мать, прижимая к груди ребенка, продолжала глотать горькие, стылые слезы, муж все так же отрешенно смотрел на ель.
— Довезем, — коротко сказал Малышкин. Он хотел добавить: «Не можем же мы оставить людей с детишками в беде, под дождем, на пустынной дороге», но, по обычаю своему, промолчал, лишь махнул рукой.
— Правильно, довезем! — обрадованно сверкнул темнющими своими глазищами Эдька и подскочил к мужчине. — А ну, дядя, держись за шею. Перехват! Бери с другой стороны.
— Садитесь, — тихо сказал Малышкин молодой матери и пошел к машине. Положив сумку на колени, он наконец-то сразу успокоился. Во время возни с пострадавшим он то и дело косил глазом в сторону распахнутой дверки, где сумка лежала целехонькой, невредимой, но подспудная озабоченность исчезла лишь сейчас.
— На середку садись, дядя. Вот так… — тараторил вновь ставший самим собой Эдька. — Ногу сюда протягивай. К демультипликатору. Вот так!
— Спасибо… Спасибо… — конфузливо и благодарно бормотал мужчина. — Да ничего, не беспокойтесь, я сам… Эх, закурить бы. У меня вся пачка размокла…
Перехватов с готовностью подал сигарету, чиркнул зажигалкой.
— Спасибо, — растроганно сказал мужчина.
— Спасибо, — сонно пропищал мальчуган, доселе сладко дремавший в углу на заднем сиденье, уткнув нос в свой цветастый шарфик.
Несмотря на продолжавшийся дождь и ухабистую дорогу, дальнейший путь к полигону промелькнул весело и незаметно.
Начальник полустанка — молоденький паренек в форменной красной фуражке — оказался человеком участливым и энергичным. Сам побежал ругаться с проводницей, когда та отказалась было пускать безбилетников. Курившие в тамбуре мужчины дружно выскочили на платформу, подхватили из солдатских рук пострадавшего и унесли в вагон. Перехватов помог зайти молодой матери, а Эдька с галантным поклоном подал ей на площадку заспанного сынишку.
— Спасибо, солдатики! Спасибо вам, мальчики! — прокричала женщина, когда поезд тронулся.
Малышкин, Перехватов и Шубин помахали ей, а потом отправились к машине. Благодарностей они не искали, но все равно было приятно, потеплело на душе от этих искренних слов.
Перехватов с Шубиным вновь принялись за анекдоты, а Малышкин слушал, улыбался, безмолвно смеялся про себя — ему было тоже хорошо и весело. Все складывалось как надо. Он опять вспомнил про обещание подполковника дать увольнительную и радужно размышлял о том, как это кстати.
Палаточного городка они на полигоне не обнаружили. На опушке леса, где летом размещался городок, ровными рядами чернели обложенные дерном цоколи, а самих палаток не оказалось. Зато в стороне, на краю огромного, расчищенного от подлеска и кустарника поля, вытянулась стройная шеренга длинных щитовых домов, над которыми ветер трепал уютные белые хвосты печного дыма.
— Ого! — изумился Эдька. — Мы их, бедолаг, жалеем, а они тут устроились как боги! — И заорал, открыв дверку, часовому у шлагбаума. — Где штаб, таежник?
Часовой, однако, совершенно не отреагировал на шутку. Поправил автомат на груди, козырнул:
— Документы.
— Чего? — опешил Эдька.
— Документы.
— Да ты что, своих не узнаешь, Белов?
— Документы.
Препираться уязвленный Шубин мог до бесконечности, потому Малышкин подал командировочное удостоверение. Свирепо сплюнув, Эдька извлек из бумажника постоянный пропуск на полигон и путевой лист. Часовой мельком взглянул в них, не спеша открыл шлагбаум, а потом вдруг осклабился, махнул рукой в сторону домов:
— Вон штаб! Валяйте, придворные духи. Там вас давно ждут.
— Ну погоди, Белов! — погрозил Эдька здоровенным кулачищем. — Попросишься подъехать — я так тебя подвезу, салага, век помнить будешь!
— Давай, не задерживай! — весело гаркнул часовой. — А то мигом в караулку!
В штабе объекта гостей тоже встретили радушно, хотя документы опять-таки заставили предъявить.
— Порядок тут у вас, — признался Малышкин, оказавшись в кабинете командира саперного подразделения капитана-инженера Будзинского.
— Служба, служба, молодой человек! — гостеприимно улыбнувшись, сказал капитан-инженер. — Устав для всех одинаково писан. Даже для долгожданных гостей.
— Конечно, — охотно согласился Малышкин. — Так… Солдатам и сержантам срочной службы, как всегда, в казарме выдадут?
— Разумеется. Быстрее будет. Подготовьте деньги и ведомости. Человек для этого у нас выделен. А офицерам можете выдавать здесь. Вы мне не помешаете. Располагайтесь за угловым столом.
— Слушаюсь, товарищ капитан. Сейчас я подготовлюсь.
Устроившись в углу, Малышкин дружески подмигнул одеревеневшему в уставной стойке у двери Перехватову: «Скоро освободишься, Саня». Открыл сумку, проверил ведомости, для порядка пересчитал деньги. Потом пересчитал еще раз. Не поверил себе, достал из сумки чистый лист бумаги — стал подсчитывать с карандашом в руках.
«Что за чертовщина!» Шея покрылась липким холодным потом.
— Ну, подготовились? — благодушно произнес Будзинский. — Можно людей вызывать?
— Товарищ капитан… Товарищ капитан… — хрипло прошептал Малышкин. — У меня две с половиной тысяча недостает…
— Что?! — ахнул у двери Перехватов.
Истекают пятые сутки ареста. Пасмурный осенний день тускнеет, пуст плац, черные тени ложатся на посеревшие строения военного городка. Со стороны солдатской столовой несется ритмичный гул шагов. Первые подразделения идут на ужин. От гаража накатывается неравномерный рев двигателей — припозднившиеся механики ремонтируют транспортные грузовики. И моросит дождь. Мелкий, мозглый, по-осеннему скучный, словно надоевший сам себе.
Петя Малышкин сидит у окна, но ничего не видит и не слышит. Он весь ушел в себя и думает, думает, думает… Нет, не гадает о своей будущей судьбе — тут гадать уже нечего. Сейчас он вспоминает, перебирает до минуты тот злосчастный день.
Три раза приходил к Малышкину следователь Галич, молоденький лейтенант, очевидно, совсем недавно надевший армейскую форму, так как цивильные привычки выдают его с головой. Он, видимо, добряк, этот Галич. Пухлогубый, румяный, что юный дед-морозик, он и говорить-то строго не умеет. Даже утешал его, Малышкина. В первый свой визит успокаивал: «Вот произведут ревизию кассы и все образуется». Но Малышкин знал, что не образуется. Он знал, что Анна Павловна и Иванов не обсчитались, что не обнаружатся в кассе бесследно исчезнувшие две с половиной тысячи.
Петр Малышкин и сейчас, как наяву, видит полученные деньги: две пачки двадцатипятирублевок, пачки десятирублевок, пачки пяти и трехрублевых ассигнаций, пачку рублевок, десять рублей монетами, ссыпанными заботливой Анной Павловной в аккуратный полотняный мешочек. Нет, не обманули его в финчасти.
И все-таки пачка двадцатипятирублевок исчезла. Новеньких, сиреневых, в аккуратной банковской бандероли. Малышкин зримо видит ее перед собой.
Во второй раз Галич больше расспрашивал о женщине с мужчиной. Заверил, что обязательно найдут их и тогда…
Но Малышкин и тогда знал и сейчас знает, что эта горемычная семейная пара делу не поможет. Они не касались сумки и едва ли даже заметили, что была у Малышкина таковая. Им, ясное дело, было не до каких-то сумок. Им своей беды хватало. Да и не возьмут такие люди чужого. Физиономист Малышкин, конечно, никчемный, но тут он готов дать руку на отсечение.
Сегодня опять был Галич. На этот раз чем-то очень озабоченный. Опять скрупулезно расспрашивал о всех деталях поездки на полигон. Все заново записал. А уходя, посоветовал Малышкину самому припомнить все до последней мелочи.
— Это очень важно. Боюсь, что вы упустили в своих показаниях какую-то тончайшую деталь, которая могла бы прояснить истину, — весьма серьезно сказал он. — Поймите это по-настоящему. В конечном счете все зависит от вас, Малышкин. Не могла же испариться эта проклятая пачка денег!
И с самого утра Малышкин вспоминает, но ничего нового вспомнить никак не может. Если бы не посещения, которые отвлекали его от этого трудного дела, то по его, Малышкина, глубокому убеждению, у него давно бы лопнула голова.
В юридических тонкостях рядовой Петр Малышкин не силен, но уставы знает хорошо. Неизвестно ему, как там положено с подследственными, но уж если попал ты на губу, если достукался — то сиди и помалкивай в тряпочку. Никаких тебе поблажек, встреч и визитов, да и полный обед через день. А его, Малышкина, кормят, как на убой. И в завтрак, и в обед, и в ужин — полнехоньки котелки. Ребята из роты всякие домашние и магазинные сладости тащат, а караул хоть бы что, никаких препятствий не чинит. Разводящие сами все это добро в камеру доставляют. И еще лыбятся:
— Рубай, корешок. Не тужи!