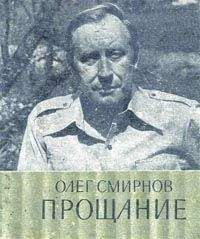Лида вела Василька за руку и старалась держаться естественно: приехали в гости к тетке, идем себе, никого не трогаем, и нас не трогайте. И улыбнуться не зазорно встречному офицеру, заглядевшемуся на нее, — и он ей улыбнулся, очень хорошо. Был бы прок… До наступления комендантского часа Лида отыскала дом, где предстояло переночевать; дом был трехэтажный, многоквартирный, и Лиде было известно: на втором этаже квартиру занимает немецкий генерал с адъютантом, с денщиком, и на той же лестничной площадке — квартира, служившая партизанской явкой. Это соседство и рискованное, и в то же время своего рода прикрытие явки, Лобода советовал: не бойся этой квартиры — потому еще, что хозяйская дочка близка к генеральскому адъютанту. Павлик не стал вдаваться в подробности, обронив: «Не по своей воле пошла на это. Так надо было». — «Надо?!» Павлик вынес ее взгляд, повторил: «Да, надо». Что эта женщина должна испытывать? Был ли у нее муж или друг? Как относятся к этому родители, она живет с ними. Друзья, знакомые?
И вот она увидела эту женщину, молоденькую, лет двадцати, очень красивую. Ну, возможно, не так красивую, как яркую: крашеные рыже-медные локоны по плечам, подкрашенные тушью брови и ресницы — длинные, как наклеенные, рот — алый от губной помады. И пахнет дорогими, заграничными духами, — отметила. Лида и Василь вошли в эту обставленную старинной мебелью квартиру, и Лида уже четверть часа спустя убедилась: здесь ведут себя, как при покойнике; хозяин и хозяйка, пожилые, благообразные, в стеганых домашних халатах, встретили их вежливо, дали умыться, покормили, постелили постели, но делали все это с какой-то замкнутостью. Лида собралась уже спать, когда в подъезде громыхнула дверь, затем зазвонил звонок, хозяин пошел отпирать. Раздался мужской голос — мешая русские слова с немецкими; его перебивал женский — вроде не совсем трезвый. В комнату к Лиде вошла женщина в длинном до пят бархатном платье, назвалась: «Валя» — и, шурша складками, села в кресло. Кивнув на спящего на диване Василя, спросила:
— Вдвоем пришли?
— Вдвоем, да, — сказала Лида, чувствуя себя дурнушкой и досадливо смущаясь от этого.
Вертя в пальцах сигарету, Валя сказала:
— Я пока что одна, Курт ушел к себе, можем свободно поговорить. — Она помяла сигарету, однако, не закурила, швырнула в пепельницу; пальцы длинные и белые, ногти ало наманикюрены. Лида до войны не делала себе маникюра, удивительно было смотреть. — Курт — это мой поклонник, представляешь? — Она проговорила это с непринужденностью и засмеялась; наверное, в квартире смеялась только она одна, но этот смех сказал Лиде все, чего стоит этой молодой, красивой женщине то, на что она решилась.
— Ну, говори, Валя. — Лида приподнялась на кровати.
Но Валя взбила прическу и ничего не произнесла. Вцепившись в подлокотники, вжалась в кресло, затаилась, ушла в себя. Тряхнув волосами, словно очнувшись, вытащила из сумочки исписанный лист бумаги, протянула, сказала сухо:
— Вот сведения: перевозки гитлеровских войск, номера частей, фамилии командиров…
— Я могу забрать с собой?
— Если у тебя при обыске обнаружат, по почерку найдут меня. Ты перепишешь данные. Еще лучше, если запомнишь их.
— Их много, я боюсь перепутать, забыть. Перепишу и спрячу надежно, в шов кофты или под стельку сапога…
— Переписывай. Своим карандашом…
Когда Лида вернула ей бумажку, Валя щелкнула зажигалкой, пламя обожгло бумажку, и уже в пепельнице горка пепла. Валя засмеялась, — безжизненный, мертвый смех:
— Так бы и мне сгореть… Ты знаешь обо мне?
— Да, — сказала Лида.
— Днем работаю в управе, вечером с офицерами… — В тоне жесткость. — Но жалеть меня, девочка, не надо. На улице в спину стреляют словами: «Немецкая овчарка». Могут и не словами стрельнуть в спину… Но ты меня не жалей, ладно? — Она тряхнула локонами и не засмеялась.
Заснула Лида не сразу, спала чутко, пробуждалась: мерещилось, что Василек во сне выборматывает пароль и явки, которые знает только она, что у подъезда фырчит машина, что в дверь дубасят приклады: «Облава!» — что в комнату без стука заходит возвратившаяся от Курта яркая, сильная и несчастная женщина по имени Валя.
И где-то в другом городе в эту ночь ворочался на кровати, пробуждался и вновь ненадолго засыпал немолодой, болезненный, одинокий человек по прозвищу Трость. Он и Лида не знали о существовании друг друга, но невидимые нити связывали их: Лида очутилась здесь с документами, добытыми через посредство Трости, и на военные объекты навел он же — хотя и косвенными путями…
Днем, когда Лида и Василь бродили с улицы на улицу, читали вывески на зданиях, объявления и приказы на столбах и заборах, прислушивались к уличным пересудам, будто невзначай заглядывали на явочные квартиры, получали данные об аэродроме, о самолетах, о штабах, о летном составе, о других подразделениях гарнизона, о настроениях в городе, — у нее не выходила из головы Валя. Павлик, наверное, прав: надо, война. Мысли влекли за собой незримое и постоянное присутствие Павлика Лободы. Ее Павлик — муж, друг, защитник. Она его любит. И он ее любит. А как бы отнесся, окажись Лида на месте Вали? Нет, это невозможно! Все воображу, только не такое… Гуляя по улицам, заходя в магазинчики и лавочки, Лида засекла зенитную батарею, танковый парк и автопарк, крестиками отметила их на городском плане, который мысленно составила. Обшарпанным, разболтанным автобусиком добрались с Василем до конечной остановки, вышли и остолбенели: вдали, у леса, были видны два аэродрома, два, а не один! Напрашивался вывод: какой-то из них ложный, где не боевые самолеты, а фанерные макеты, — это еще предстоит уточнить; тут, возле аэродромов, задерживаться было рискованно, очередным автобусом — в обратный рейс, до центра. Снова вышли. Их обогнал немец-офицер в долгополой шинели, бледнощекий и прыщавый, бесцеремонно заглянул Лиде в лицо, и Лида ему улыбнулась. Офицер незамедлительно пристроился — приложил два пальца к козырьку, коверкая слова, произнес по-русски, что им, кажется, по пути? Лида с любезным поклоном подтвердила: по пути. Они пошли втроем: Лида с офицером впереди, болтая, Василек сзади, молча. Из-за угла показался военный патруль, и Лида, не переставая щебетать и улыбаться, взяла офицера под руку; патрульные оглядели их и прошествовали мимо. Офицер настырно добивался у Лиды свидания — сегодня же в шесть вечера у аптеки, сходим в казино, комендантский час пусть ее не смущает, он сам в комендатуре служит. Лида пообещала прийти, если мама отпустит. «Она у меня строгих правил, господин лейтенант». «О, ошен хорошо, фрейлейн!» Чего хорошего, гитлеровский недоносок, прийти я к тебе не приду, а жаль, у тебя кое-что можно выудить.
Ночевали Лида с Василем на другой квартире; едва поужинали, не раздеваясь, улеглись валетом на диванчике; комната была маленькая, тесная, на пять человек. Да их двое. Не повернешься. Помокнув под дождем, намаявшись за день, уснули, как убитые. Лида не просыпалась, во сне продолжая — как ни устала — читать вывески оккупантских учреждений, заигрывать с прыщавым лейтенантом, слушать Валентину. Пробудилась от шума автомобиля у ворот, затем в ворота и двери заколотили прикладами; в первый миг подумала: «Приснилось, как у Валентины». Но в следующий поняла: явь. Выглянула в окно: немцы! Внизу крики:
— Хальт! Хенде хох! Партизанен!
И по-русски, с причитаниями:
— Батюшки, облава! В сквере немца убили! Заложников схватят, господи!
На первом этаже звон разбитой посуды, плач, неразборчивые вопли. Лида подскочила к Василю, сунула ему сапоги, натянула свои, потащила его к двери. Вышли коридором вниз, во двор. Притаились за сараем. Под окном стоял немец; где-то за домом раздались крики и вопли, и немец затопал туда. Увлекая за собой мальчика, Лида спустилась в зиявший за сараем овраг. Поползли, вскочили на ноги, припустились бегом: попасть в облаву даже с надежными документами худо, можешь и не выкрутиться. Особенно когда кто-то прикончил немца и хватают заложников. Задыхаясь, они перешли на шаг. Лида крепко держала за руку Василя, чтоб не отстал, не потерялся, и думала, что вот избегли еще одной смертельной опасности, можно сказать, пронесло по счастливой случайности, что надо покидать город, но что она еще не однажды сюда отправится, связная партизанского отряда, и ее ненаглядный Павлик будет доволен, как она выполнит задания командира…
Ну вот, и Тышкевичи погибли. Война продолжает свое — убивает хороших людей. И плохие, разумеется, гибнут, но ощущение, будто хороших убивают намного больше. Все собирался съездить, проведать, поговорить. А ведь были поводы, чтобы завернуть в лесникову сторожку, непосредственно связанные с оперативными делами. Дооткладывался. И могилки нет, сожгли их в сторожке. А то бы закопали в одной могиле, по сегодняшним правилам каждому яму не роют: сколько убило зараз, на всех одну могилу, и уж если повезет, если тебя убьют одного, получишь персональный вечный покой. Да, Скворцов, юморист ты, ничего не скажешь. Он едет на пепелище, чтоб поклониться праху Тышкевичей. Повод есть: в соседнем селе проводят с Емельяновым митинг, по пути в село дадут крюка и заедут на пепелище. Смерти и смерти. Насмотрелся на них на три жизни вперед. Скворцов поглубже утопил подбородок в воротнике, поморщился: на ямах, на рытвинах в седле подбрасывало и в поясницу будто ширяли раскаленным прутом. Немец-врач определил: радикулит, нужно прикладывать мешочек с нагретым на сковородке песком, носить повязку из собачьей шерсти. Скворцов и без его диагноза сообразил, что с поясницей, когда однажды утром, натягивая сапоги, не мог распрямиться, из-за боли. Мешочки с песочком — пес с ними, песью повязочку где же достанешь, а шерстяным платком, который добыл Федорук, пришлось обмотаться. Что за гражданская мирная болезнь прилепилась! Конь шел, прядая ушами, косясь по сторонам, и, как всегда, его беспокойство передавалось Скворцову. Он вглядывался в дорогу, но подозрительного не замечал. Конь, вероятно, волновался из-за того, что на взгорке валялась лошадиная туша с вырезанными кусками на крупе, уже попахивавшая разложением. Лошади к гибели лошадей еще не привыкли, люди к гибели людей привыкли.