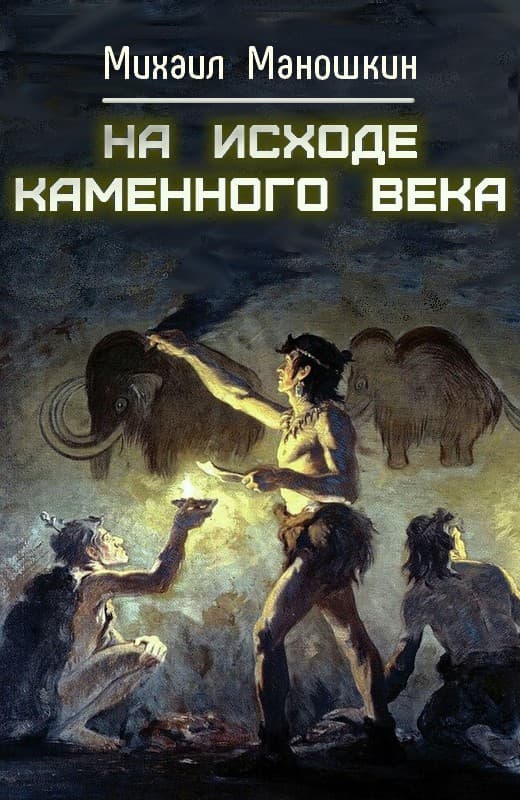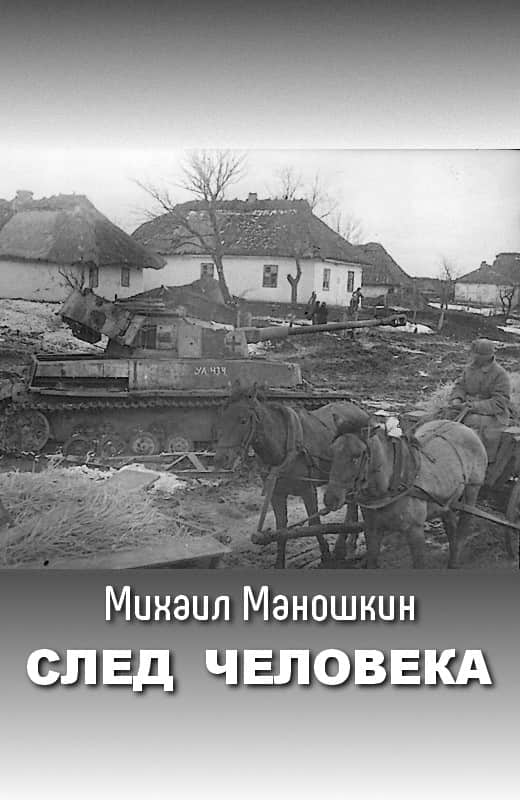упрекнул он и хлопнул дверью.
— Болтун — находка для шпиона! — ухмыльнулся Фомин, садясь на освободившееся за столом место. — А я как вошел, подумал, Марзя женится.
— У тебя, Петя, ветер в голове, — сказала Ольга.
— Зато нос большой!
— Самогон за километр чует.
Фомин, ухмыляясь, принялся за жаркое.
— Ты бы, жених, стишок сочинил!
— Давай, Марзя!
— Стишок!
Марзя, глядя на Фомина, проговорил:
— Паяц — не тот, кто только хлеба ради,
паяц — такой почтенен труд, —
а тот, кто не мечтает о награде,
кому лишь бы унять словесный зуд.
Как дураку по имени Фома,
коль у него ни капельки ума.
Грянул взрыв смеха. Фомин не устоял перед искушением и захохотал со всеми.
Ольга встала, взялась за платок. Борзов хотел было задержать ее, но Сенька легким жестом остановил его.
— Спасибо, мальчики! Паша, ты меня проводишь? Ольга и Марзя ушли. Обстановка в избе сразу изменилась.
— Ты чего не пьешь? — повторил Борзов.
— Он к заграничным привык, — сквозь зубы процедил Сенька. — Немцы шампанским его поили.
— Не забывайся, — вмешался Илья, — а то я не посмотрю, что ты Сенька-пулеметчик и что у тебя документы в порядке…
— А ты не лезь. Это тебя не касается.
— Не дури…
Борзов, разряжая обстановку, потянулся к бутылке. Фомин тут же отозвался на его жест:
— Лей, не жмись! А Марзя сейчас Ольге сочиняет!
Упоминание об Ольге подстегнуло Сеньку. Он выпил, провел по губам ладонью, набычился:
— Ты вот в плен сдался, винтовку бросил, а теперь на готовенькое пришел в калошах. Думаешь, тебя здесь по головке погладят? Здесь тоже стреляют. — Сенька уже плохо понимал, чего хотел от Крылова.
Крылов сидел, опустив голову. Никто еще так не оскорблял его. Сеньку он сейчас ненавидел.
— Ну, чего молчишь? — прикрикнул Сенька. Крылов взглянул в помутневшие Сенькины глаза:
— Ты не только дурак, ты сволочь.
Если бы не Борзов и Антипин, Сенька наверняка опрокинул стол.
— Я сказал тебе, не лезь. — повторил Антипин. — Потом, тебе все равно с ним не справиться.
Хлопнула дверь, Марзя с несвойственной ему торопливостью подскочил к Сеньке, сгреб его, тряхнул и поволок к двери. Что там происходило, за дверью, Крылов не хотел знать. Сенька вернулся в избу минут через десять, притихший и отрезвевший. Лицо, волосы и гимнастерка были З аюто вранегу.
Борзов и Антипин привели избу в порядок.
— Накурили — топор вешай! — вошел Максимыч, разделся, присел на скамью. — Ты, московский, в армии кем был?
— Пулеметчиком, потом стрелком.
— Сеня, возьмешь новичка к себе.
— Обойдусь без него.
— Ты чего?
— Марзя ему голову намылил! — оживились партизаны.
— Значит, за дело. Лошадям дайте на ночь овса. Лузгин опять обоз обстрелял.
— Едем? А я что говорил! — ухмыльнулся Фомин.
— Значит, Сеня, новичок с тобой. Винтовку тебе, московский, завтра найдем.
— Наши винтовки за Ямполем, в лесу.
— Знаю, Силаков говорил. Зря я ему Бурлака отдал, зря. Ну, а теперь спать. Как, Поль, они тут без меня?
— А ничего, Андрей Максимыч. Известное дело, молодежь, силы девать некуда.
— Некуда? Найдется куда.
Так закончился этот волнующий счастливый и в то же время горький день в жизни Крылова, потому что, кроме радости, он познал слепую, оскорбительную неприязнь к себе со стороны тех, кого считал товарищами. Горечь эта наверняка была мимолетна, но она отложилась в его сознании как новая крупица трудного жизненного опыта.
В донских степях выла метель. Ветру раздолье — то стеной ломит в открытом поле, то захороводит в оврагах, а то заиграет густыми снежными россыпями и начнет громоздить сугроб на сугроб — тогда не видно ни земли, ни неба за снежной сыпью. Нет беды худшей, чем в такую пору сбиться с дороги, вьюга играючи запутает пешехода, заведет в белую трясину да и похоронит в ней. Человеку лучше переждать дома лихое время: с ветром и снегом не совладать — сами угомонятся, когда устанут от вьюжной свадьбы.
Только война не ждала, пока уймутся снега и метели, — ее жернова безостановочно перемалывали людскую плоть. День и ночь шла по бездорожью пехота, натужно урчали танки и, соперничая с ветром, выли снаряды и мины. Сколько людей оставалось под снегом до весны, не узнать. Живые шагали дальше, минный вой сливался с плачем метели, и нельзя было наверняка сказать, где фронт и где тыл.
К хутору Семенковскому брели из степи закутанные до глаз, полуобмороженные голодные солдаты, и никто не узнал бы в них тех розовощеких самоуверенных молодцов, которые летом наступали на восток. Они выныривали из метели и снова исчезали в ней. У них теперь почти не было никаких надежд выжить в страшной войне.
Неподалеку от хутора расположилась артиллерийская батарея, и Вышегор вздрагивал, когда начинали бить орудия. Он был еще слаб, ночами его мучили кошмары, днем у него случались жестокие приступы головной боли. Он подолгу сидел на крыльце — холод и снег действовали на него успокаивающе, — а если позволяла погода, бродил по хуторским тропинкам. Провал в его памяти оставался, Вышегор еще не мог восстановить свое прошлое. Оно распадалось на мелкие клетки, каждая из которых существовала порознь. Батарейные залпы еще сильнее дробили эту пеструю мозаику, причиняя Вышегору резкую боль. Тогда он спешил укрыться в хате, стены которой приглушали орудийный грохот.
Во время прогулок Вышегор навещал учительницу Любовь Тарасовну. Она встречала его с неизменной доброжелательностью. Семейная жизнь у нее не сложилась. Брак, закончившийся разводом, принес ей глубокую неудовлетворенность. Решив начать жизнь заново, она покинула Сталинград, где жила с родителями и поселилась в Семенковском. За несколько лет привыкла и к хутору, и к хуторянам. Местные парни пытались ухаживать за ней и даже делали ей предложения, но она так и осталась одинокой. Жила для школы, для дочери, которая в сорок втором году должна была пойти в первый класс. Война закружила обеих по сталинградским дорогам, а потом свела со старшиной Вышегором, у которого сама же отняла семью год тому назад. Медленное выздоровление Вышегора было бы невозможно без заботливых рук Любови Тарасовны. Она ухаживала за ним, лечила его отварами из трав — благодаря ей приступы головной боли случались у него все режерога к дому Любови Тарасовны была нетрудна, и Вышегор не боялся заблудиться даже в метель. Сначала надо было держаться вдоль хат, потом вдоль вешек до речки, а за речкой опять по улице.
Когда он был уже на той стороне, загрохотали орудия. Они