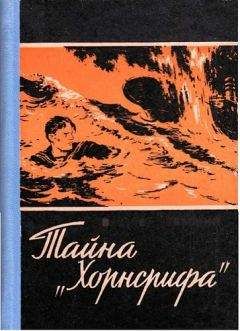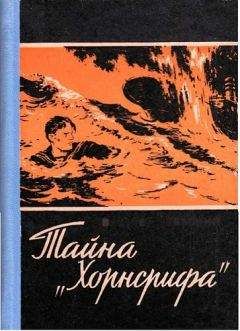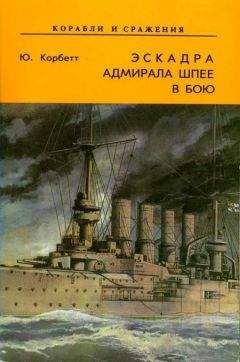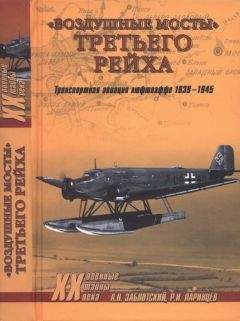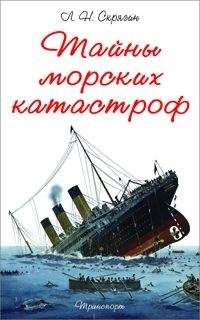— Да, закон не для всех одинаков! В конце концов, у нас наказуется не само преступление, а человек, как виновник преступления. Я всей своей службой, — Фишель, говоря это, все время бил себя в грудь, — доказал свое отношение к фюреру. Мой экипаж всегда был готов в любую минуту умереть за идеи нашей партии. Везде, где бы я ни служил, я был не только офицером, но и политиком. Моя служба — это образец служения народу и фюреру. Я всегда был примером для всех. Это они должны будут учесть!
— А вы еще не имели счастья убедиться, учитывают ли это наши канцелярские крысы?
— Вы еще увидите, господин Шюттенстрем! Конечно, вы не можете всего этого понять. В конце концов, национал-социализм не сделал вас великим. Но мне-то все хорошо известно, и я абсолютно уверен в этом!
Фишель, кажется, очень увлекся.
— Я уверен, — напыщенно продолжал он, — что дух фюрера укрепился и в нашей юстиции. Военные судьи уже освободились от старых, отживших представлений и принципов. Если «Нанкин» и был перегружен, значит, на то была воля фюрера. Ну, а что он может сделать против диверсий негодяев и преступников вроде вашего «зайца»? Нет, все его приказы имеют глубокий смысл и, в конце концов, приводят к успеху. При условии, если мы, солдаты, выполняем их точно. Только в одном я должен, пожалуй, упрекнуть себя: я, как воспитатель, недостаточно последовательно выполнял свой долг. Нельзя допускать ни малейшего послабления, ибо это начало конца. — Фишель вытер платком лицо. — Но в этом вопросе вы, господин Шюттенстрем, не можете или просто не хотите придерживаться моей точки зрения. Это я замечал уже несколько раз. Взять хотя бы ваше отношение к поведению Кунерта. Но я хочу сказать только одно: до тех пор, пока я нахожусь здесь, на «Хорнсрифе», я буду исполнять свой долг и ни на минуту не прекращу борьбы с недисциплинированностью и небрежностью. Со всей политической ответственностью я буду бороться за воспитание команды в духе идей нашей партии.
До Шюттенстрема дошел наконец смысл всех речей Фишеля. Пространные тирады незадачливого командира «Нанкина» он выслушал с удивительным спокойствием. Фишель не мог так быстро опьянеть от двух бокалов! Страх, жалкий страх за свою карьеру обуял его! Вот где собака зарыта!
Командир «Хорнсрифа» стукнул кулаком по столу, так что бокалы, стоящие на нем, зазвенели:
— Довольно, господин Фишель! Как вы смеете разговаривать таким тоном со старым капитаном, всю свою жизнь водившим немецкие суда?
— Я попросил бы не ставить мне в упрек, что я, как старый член партии, не могу не исполнять свой долг.
Шюттенстрем вскочил. Необычное для него состояние крайней возбужденности охватило его. Он ухватился руками за спинку кресла и, наклонившись всем телом вперед, прорычал прямо в лицо Фишелю:
— Ах, член партии! Член партии! Оставьте меня в покое с вашей принадлежностью к партии! Меня абсолютно не интересует, какой порядковый номер вашего билета. Меня волнует лишь ваша совесть! Причем я не различаю совести политики и совести моряка, личной или служебной совести. Для меня человек должен иметь только одну совесть! И я спрашиваю, есть ли она у вас?..
Фишель ловил ртом воздух.
— Господин капитан-лейтенант! — До сих пор Фишель сидел сгорбившись. Теперь он тоже вскочил и вытянулся у стенки каюты.
Пока командир говорил, Фишель, белый как мел, стоял, прислонившись к стене. В его глазах горела ненависть. Старшего помощника глубоко задело, что этот старик, этот неотесанный чурбан, так унизил его. Он шагнул вперед и приподнялся на носки.
— Господин капитан-лейтенант, не вам судить о моих действиях. Этим будет заниматься военный трибунал и, слава богу, национал-социалистский. Но если вы полагаете, что, находясь на корабле германских военно-морских сил, можете клеветать на нашу партию и фюрера, вы ошибаетесь. Я встану на их защиту. Вы здесь командир, и я обязан вам подчиняться. Но я не позволю вам критиковать мои политические воззрения! По этому вопросу мы, возможно, поговорим с вами в другом месте.
— Вы что, угрожаете? — Шюттенстрем задал этот вопрос, сохраняя полное спокойствие.
— Я не угрожаю, я только допускаю такую возможность.
«Какой же он жалкий урод», — думал Шюттенстрем, слушая Фишеля.
К Фишелю снова вернулась его обычная наглость.
— Я еще раз заверяю вас, что никогда ни на шаг не отступлю от своих убеждений. Моя совесть — фюрер. И если мне придется предстать перед судом в Бордо, знайте, что я, несмотря на ужасное происшествие, случившееся в Иокогаме, буду твердо стоять на своих позициях…
— Это значит, — перебил его Шюттенстрем, — если я вас правильно понимаю, что вы попытаетесь, находясь здесь, провести еще несколько опытов воспитательного характера.
Немного помолчав, он продолжал:
— Скажите прямо, господин Фишель, что все дело в Шмальфельде!
Старший помощник слегка отступил назад:
— Да, в том числе и в Шмальфельде!
Шюттенстрем с презрением оглядел его с головы до ног:
— Я еще откровеннее скажу вам, Фишель: вам нужен Шмальфельд, вернее, «дело Шмальфельда», чтобы еще раз выслужиться, прежде чем вы предстанете перед судом.
Командир попал в самую точку. После этой словесной дуэли, грозившей Шюттенстрему большими неприятностями, он не ожидал, что Фишель пойдет на уступки. И все же тот отступил первым! Дрожащим голосом старший помощник произнес:
— Господин капитан-лейтенант, как дознаватель, я обязан провести расследование по делу Шмальфельда… это же мой долг.
Шюттенстрем покачал головой, сделал несколько шагов по каюте, потом сказал:
— Подумайте, что будет со Шмальфельдом! Это же конец для него. Вы сами хорошо понимаете, что значит для человека несколько лет тюрьмы или концлагеря.
Старший помощник опять начал понемногу переходить в наступление:
— Но вы ведь не можете потребовать, чтобы я спокойно проходил мимо факта нарушения расовых законов и оскорбления действием начальника. Этого ведь не скроешь. Все это неслыханное свинство, и я требую, чтобы Шмальфельд был отстранен от исполнения своих обязанностей.
Это требование Фишеля прозвучало веско и угрожающе. Шюттенстрем неожиданно вспомнил о своем разговоре с доктором Беком. Разве сейчас все дело в Шмальфельде, только в нем одном? Если они благополучно доберутся до Бордо, Фишель, не моргнув глазом, наденет ему на шею веревку. Это столкновение со своим старшим помощником сильно взволновало Старика. Предостерегающий внутренний голос (на самом деле это было малодушие) останавливал его, заставлял пойти на уступки. Но чувство, которое он называл совестью, победило в его сомнениях и побороло малодушие. Дело касалось человека, давшего отпор системе насилия. Он должен помочь этому моряку, заступиться за него, если не хочет потерять уважение к самому себе.
— Я не могу вам, как дознавателю, подсказывать и предписывать решения, но вопросы несения службы на «Хорнсрифе» решаю пока только я. Шмальфельд не будет отстранен от своих обязанностей.
Шюттенстрему показалось, что неуверенность снова охватила Фишеля. Действительно ли этот нацист таков, что стоит только посильнее нажать на него, и он сразу сдаст? Или же за этим скрывается что-то другое? Командир решил окончательно все выяснить.
Старший помощник ушел. Шюттенстрем также вышел из каюты и поднялся на мостик, чтобы еще раз напомнить вахтенным об опасности, нависшей над «Хорнсрифом», и призвать их быть все время начеку.
Вскоре командир вернулся к себе. Даже реальная угроза атаки своих же подводных лодок не могла отвлечь его от мыслей, вызванных ссорой с Фишелем. Так резко разговаривать со своим старшим помощником ему еще не приходилось ни разу. На борту «Хорнсрифа» внутренние конфликты обострились и между другими лицами. Шюттенстрем еще раз обдумал весь разговор и вспомнил отдельные фразы. Аргументы Фишеля не были вескими, а его методы борьбы были грязными. Выдачей нацистским палачам Шмальфельда он, безусловно, хотел обелить себя.
Значит, позиция, занятая им, Шюттенстремом, была правильной. Командир вздохнул с облегчением. У него отлегло от сердца. Да, Фишелю надо было обязательно показать зубы. Борьбу за Шмальфельда, за человеческое достоинство и за порядочность нужно довести до конца.
У него заметно улучшилось настроение, хотя он и был озабочен судьбой «Хорнсрифа». По судовому телефону командир вызвал к себе Шмальфельда. Разговор между ними длился довольно долго, почти час.
Когда матрос вышел из каюты командира, Старик снова взялся за виски. С довольным видом он посмотрел бутылку на свет и удовлетворенно кивнул. Сделав большой глоток прямо из горлышка, он, закряхтев, почти упал в кресло.
Когда Хенце просунул вскоре голову в дверь каюты, Шюттенстрем неподвижно сидел в кресле. Увидев бутылку с виски, вестовой решил, что Старик хватил лишнего. На вопрос, подавать обед сюда или в кают-компанию, последовал лишь молчаливый кивок головой.