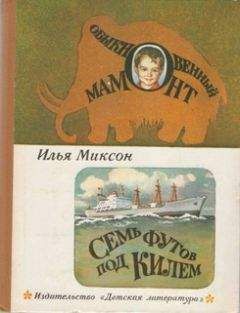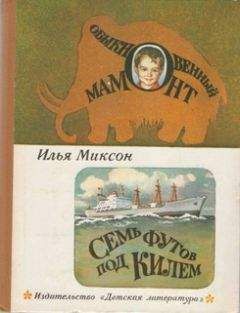Доложил начальнику штаба дивизиона, «Девятому», обстановку, попросил разрешения открыть огонь. «Девятый» не дал ни одного снаряда: «Прибереги на завтра, вдруг не подвезут?»
Вот они, прелести обороны! Снарядов и тех для нас жалко. Приказал разведчикам усилить наблюдение. Больше ничего и не осталось, как слушать немецкие моторы, глядеть и помалкивать.
Поднял воротник шинели, чтоб земля за шиворот не набивалась. Убожество, а не блиндаж!
Где-то близко в тылу разорвался снаряд, калибра этак 120–150. Камуфлированная плащ-палатка, которой занавешен вход, выпятилась парусом; пламя коптилки наполовину погасло, но огонь снова охватил толстый фитиль.
Опять заколыхался свет. Возвратился Разлука. Не спеша закрепил полог. Шинель на спине распорота острым лезвием осколка на целую пядь.
— Прибыл, — сообщил Разлука. Что повреждение устранено, ясно и так.
— Много кабеля попортило? — поинтересовался Есипов.
— В двадцати семи местах перебило, — моргнув светлыми выпуклыми глазами, ответил Разлука.
— Где же ты столько нового провода раздобыл?
В голосе Есипова подозрительная недоверчивость.
— Пехота одолжила, — равнодушно сказал Разлука. — Склад у них, двести катушек.
Есипов понимающе хихикнул.
— Не зацепило? — на всякий случай я осторожно прикоснулся к шинели над лопаткой.
Разлука, извернувшись, нащупал дыру. Видно по глазам, что он не знал о её существовании.
— Ах, это? — беспечно протянул Разлука. — Пятисотка рядом ухнула, товарищ гвардии капитан. Стабилизатором задело.
Двадцать семь порывов, ни больше ни меньше; пехотный склад на двести катушек; бомба в пятьсот килограммов. Поразительная точность и ни грамма достоверности!
— Не слыхать что-то самолётов было, — усмехнулся Есипов.
— С большой высоты бомбили, — ничуть не смутился Разлука. — С четырёх тысяч.
Теперь ещё и вымеренная высота!
— Чем же ты высоту определял? Линеечку на складе выпросил?
Разлука с сожалением покачал головой:
— Жаль мне твоих деток, дубок милый.
— Это почему?
— Фантазии у папы с воробьиный нос. «Лине-ечку»!..
— Трепач ты, Разлука. — Есипов облегчённо вздохнул и полез за кисетом. — Подымим, а?
— Как угодно. — Разлука косо передёрнул плечами и, всерьёз обидевшись, смолк. Он сбросил шинель и принялся чинить её, больше не говоря ни слова.
Я следил за Разлукой. Когда он увлечён каким-нибудь занятием, лицо у него задумчивое, в светлых выпуклых глазах тихая грустинка.
С первым весенним солнцем нос и запалые щёки Разлуки покрываются мелкими-мелкими веснушками. Сейчас он ещё только начинает рыжеть: значит, скоро быть настоящему теплу.
Шов готов. Разлука перекусил стальными зубами суровую нитку. У него все передние зубы стальные, верхние и нижние. В Сталинграде в рукопашной прикладом выбили. Концы проводов Разлука всегда зачищает зубами: фирменные кусачки.
Разлука исследовал шинель, обнаружил ещё две прорехи, поменьше.
Наверху становилось тише, и моторы за автострадой заглохли.
Есипова нудила тишина. Он запрашивал линию чаще, чем была в том нужда, поглядывал на Разлуку. Тот — ноль внимания, целиком ушёл в работу.
— Подымим, а, Разлука?
— Занят. Сам сверни, — назначил откуп за оскорбление Разлука. Есипов и впрямь ловко крутил цигарки: раз- раз — и готово.
Мир восстановился.
— Расскажи чего-нибудь, а, Разлука? — Есипов настроился слушать очередную историю, полную небылиц и нарочитого вранья.
Молчание для Разлуки — состояние противоестественное, но сейчас, видно, он был настроен на другое. Сбив щепкой нагар с коптилки, Разлука некоторое время внимательно изучал перекрытие. Оно из крышек от снарядных ящиков. При взрывах сквозь щели просыпалась земля.
— Шалаш сиротский, а не блиндаж, — сделал вывод Разлука.
Настроение Есипова омрачилось. Чего доброго, я прикажу переделать землянку или отрыть новую.
— Тесно ему, — буркнул Есипов. — Дворец ему на сутки воздвигни.
— Дворец нам ни к чему, а блиндаж человеческий не помешает, — сказал Разлука серьёзно. — Помните, товарищ гвардии капитан, какой блиндажик мы отгрохали в Новый год?
«Мы отгрохали»…
— Помню.
* * *
В канун Нового года мы устроились в кирпичном двухэтажном особняке прусского фольварка. Нам досталась комната, где прежде была детская.
Никогда в жизни не видел я столько красивых игрушек.
Золотогривый скакун на качалке, заводные лакированные автомобильчики, звери из папье-маше и гуттаперчи, радужно яркие кубики, автоматический вальтер с пистонной лентой, настоящие фарфоровые сервизы и мебельные гарнитуры из дворца короля Лилипутии; карета, запряжённая шестёркой, с форейторами на запятках. А куклы! Великосветские дамы в роскошных одеждах, девчонки в коротких платьицах, пухлые младенцы в конвертах.
Мы набросились на это разнообразное великолепие, как дети в счастливые именины. Откладывали одну игрушку, чтобы тут же взять другую. Запищало, замяукало, загудело. По полу забегали автомобильчики, промчалась карета, смешно задрыгали ногами лошадки.
В громадной ручище разведчика Гомозова затрещал автоматический вальтер. Расстреляв всю ленту с пистонами, Гомозов бросил пистолетик на пол, наступил на него и зафутболил в дальний угол. Потом он взялся за лимузин и стал заводить ключиком пружину. Делал он это с чрезвычайной осторожностью и всё-таки не рассчитал свою богатырскую силу. Раздался треск, и Гомозов растерянно и виновато оглянулся на товарищей.
Все вдруг умолкли и бережно отложили игрушки. Только Разлука не выпустил из рук маленького пупса. К распашонке прилип обсосанный леденец, и Разлука сосредоточенно отдирал его, стараясь не повредить ворсистую розовую фланель.
Красный грузовичок уткнулся в распахнутую дверцу шкафа и замер. Разлука, не вставая, поднял грузовичок, дал колёсам открутиться и поставил его на полку. И все, как по сигналу, стали собирать игрушки и складывать их на место, притихшие и суровые.
Повинуясь указаниям Разлуки, Гомозов развернул громадный шкаф и придвинул его стеклянными дверцами к стене.
— Так спокойнее, — сказал Разлука. — Со стеклом шутки плохи.
— Дети, они ни при чём, — вытирая со лба крупные капли пота, законфузившись, добавил Гомозов.
Разлука с Есиповым приволокли откуда-то диван в форме растянутой лиры и оленьи рога на дощечке. На рога повесили автоматы. Диван достался мне.
…Пока я спал, в комнате появилась трёхстворчатая шёлковая ширма; за ней на кровати отдыхал Разлука.
* * *
Вот о чём я вспоминаю, когда Разлука говорит о нашем блиндаже, который «мы отгрохали» под Новый год.
— Помню.
— Замечательный блиндажик был. — Разлука упрямо называет блиндажиком кирпичную домину с амбразурными щелями в каменном фундаменте.
— Напросишься, — хихикнул Есипов. — Заставят новый блиндаж рыть, так не возрадуешься. Век тут сидеть располагаешь?
— Дубок милый, — ласково огрызается Разлука. — Солдатских примет не знаешь: в добром блиндаже не заживаются, в дырявом — зимуют.
Есипов отмалчивается.
— Никогда ему не прощу, если опоздаю в Берлин, — обходным маневром продолжает наступление Разлука.
— Кому — ему? — Есипов не опит, курит.
— Гитлеру паршивому.
— Трепач! — хихикает Есипов. Разлука органически не переносит этого слова. Есипов нарочно злит его.
— Как угодно, — косо передёргивает плечами Разлука и обиженно замолкает.
Про блиндаж и примету Разлука верно сказал. Не раз убеждался: дольше всего приходится торчать на одном месте, когда ютишься в скверной дыре.
— Завтра подыскать брёвна для наката.
— Слушаюсь! — веселеет Разлука.
— Напросился всё-таки, — бурчит Есипов недовольно и тихо, но так, чтобы я расслышал.
— Есипов, ясно?
— Ясно, товарищ гвардии капитан. — Есипов шумно вздыхает и натягивает палатку на голову.
Проверив наблюдателей и распорядившись на ночь, я тоже укладываюсь.
…Явственно слышу пушкинские стихи, проникновенные, певучие:
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Осторожно приоткрываю глаза, боюсь вспугнуть Разлуку. Он привалился спиной к неровной земляной стене. Телефонная трубка висит у самого уха на верёвочной петле, надетой наискось под шапкой. В светлых выпуклых глазах золотые блики огня. В оранжевой полутьме мягко вырисовывается лицо.
Черты лица Разлуки на редкость правильные. Сейчас лицо классически красиво. Так, во всяком случае, мне видится.
Тонкие брови волнятся, взлетают, сходятся. В певучем тенорке столько чистоты и искренности, что у меня сердце сжимается от любви и сострадания к растерянной душе Татьяны.