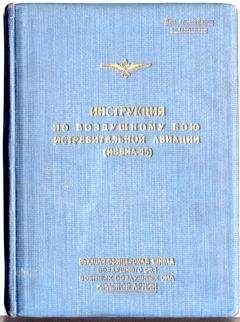Это тоже небо. Точнее — изображение неба, спроектированное на карту рукой метеоролога. Можно, конечно, подтрунивать над ошибками синоптиков, и все-таки не стоит уходить в полет, предварительно не заглянув в синоптическую карту, не попытавшись оценить обстановку, не окинув единым взглядом поле боя.
Небо — всегда арена схваток: холодные течения теснят теплые, наступают фронты, коварно растекаются окклюзии, идут на прорыв циклоны и держат оборону антициклоны, и, распушив «лисьи хвосты», ползут облака-разведчики, и где-то, еще невидимые и неслышные тут, гремят настоящие грозы…
Они собрались на запасном аэродроме: молодой инженер, автор стартовой установки, получивший с легкой руки Главного маршала неофициальное прозвище «Бочка», десяток сотрудников специального конструкторского бюро, Виктор Михайлович Хабаров, начальник летной части Федор Павлович Кравцов, представитель министерства Илья Григорьевич Аснер и еще несколько человек — неофициальные полпреды заинтересованных организаций.
Была назначена последняя проба.
Метрах в трехстах от края взлетно-посадочной полосы поставили стартовую машину. На ажурных направляющих покоился списанный, отслуживший свой век самолет-истребитель. Под фюзеляжем самолета висела здоровенная бочка — ракетный пороховой двигатель. От стартовой установки к командному пункту толстым разноцветным жгутом протянулись провода.
Заканчивались последние приготовления к взлету.
К Хабарову подошел Аснер, поздоровался и спросил:
— Так как дела, Виктор Михайлович?
— А вот сейчас увидим, Илья Григорьевич.
— Увидеть-то мы увидим, но не все. Меня прежде всего ваша подготовка интересует, а не сам аттракцион.
— Доработки выполнены. Крепление ускорителя переделано полностью, по-моему, удачно. Защелка рычага управления основного двигателя усилена дополнительной пружиной, фиксаторы ручки управления поставлены… Словом, все, что можно было предусмотреть, предусмотрено. А дальше… Дальше, сами знаете: ринг покажет.
— Что у вас на тренировке произошло?
— В каком смысле?
— Только, пожалуйста, не темните, Виктор Михайлович! Мне доложили: перепутали заряд. Перепутали?
— Ясно. Начальству уже накапали. Ну и публика! Действительно, такой случай был: заложили заряд на перегрузку шестнадцать вместо шести…
— Черт знает что! За такое дело судить мало. Могли ведь вас изуродовать, инвалидом сделать…
— Вы знаете, Илья Григорьевич, как ни странно, но именно эта ошибка оказалась полезной: нечаянно опробовав перегрузку шестнадцать, я убедился, во-первых, что не так страшен черт, как его малюют, и, во-вторых, вообще как-то спокойнее стал относиться ко всей программе.
— Но вы же неделю после этого казуса не могли головы повернуть.
— Прошло. Видите — ворочаю совершенно нормально.
— Как бы там ни было, а доктора вашего надо все-таки проучить. За халатность.
— Если бы вы только выражение докторского лица видели, когда не на шесть, а на шестнадцать шарахнуло, вам бы, Илья Григорьевич, жалко его наказывать стало.
— А у вас! какое выражение было?
— Судя по киноленте, вполне приличное. Я бы не сказал, что очень осмысленное, но довольно все-таки бодрое…
Подошел инженер:
— Все готово, Илья Григорьевич.
— Как заправка?
— Минимальная, до конца полосы не долетит.
— Хорошо. Начинайте.
Инженер взял выносной микрофон на длинном шнуре и скомандовал:
— Всем отойти от изделия. Приготовиться к пробе.
Люди, копошившиеся у машины, быстро покинули стартовую площадку.
— Запуск основного двигателя, — скомандовал инженер.
— Есть запуск, — откликнулся механик, дежуривший на пульте.
Прошло совсем немного времени, и двигатель сначала заурчал, потом, словно решившись, взревел и выбросил могучую струю газа.
— Двигатель запущен.
— Форсаж!
В обвальном грохоте потонули все звуки, минуту назад еще населявшие аэродром. За стартовой установкой заклубилась пыль, полетели камушки, черной птицей мелькнул и исчез вырванный пласт земли.
— Пуск! — невольно пытаясь перекричать этот ад, рявкнул инженер в микрофон и нажал красную кнопку на пульте. И тут же побежала стрелка секундомера. Летчик, не отрывая глаз, следил за ее тонким стремительным жалом: десять секунд, двадцать, сорок… минута, вот уже и восемьдесят секунд, и сто… Из-под фюзеляжа рванул сноп дымного яркого пламени, раскатисто грохнуло, и самолет устремился вперед.
Самолет летел!
Ровно через шесть секунд от фюзеляжа отделилась «бочка».
«Бочка» упала на землю, подпрыгнула и осталась лежать неподвижно.
А самолет, словно выстреленный из громадной рогатки, набирал скорость. Потом сделалось совершенно тихо: кончилось горючее, и основной двигатель заглох. Но серебристая машина-стрелка продолжала лететь. Еще не иссякла; сила инерции. Виктор Михайлович совершенно отчетливо почувствовал: истребитель летит умирать. Что все произойдет именно так, он знал и раньше, так было запрограммировано. Но одно дело — знать, и совсем другое дело — чувствовать.
Сначала самолет уменьшил угол набора, постом потихонечку перешел на снижение. Чуть кренясь вправо, истребитель сокращал и сокращал зазор с землей; вот, взбив над полосой облачко серой, летучей пыли, чиркнул консолью по грунту, вот всем весом ударился о землю, отскочил и, разваливаясь, с глухим, чуть запоздавшим стоном рухнул.
Эксперимент был закончен.
— Кажется, все хорошо, — сказал инженер, стараясь придать голосу обычную твердость.
— Очень хорошо, — сказал Аснер, — поздравляю.
— Нормально, — сказал Хабаров и подумал: «Лучше бы на это не смотреть».
Было еще рано, и у большинства людей рабочий день только-только начинался. Хабаров сел в машину и медленно поехал в сторону шоссе. Потом свернул на грунтовую дорогу и, отъехав километра три от стартовой, установки, притормозил. Здесь он бросил автомобиль на обочине и тихо пошел сквозь лесок к озеру.
Он шел сквозь просвечивающий лесок, кусал сорванную на ходу травинку. И его, помимо воли, преследовала картина падающего самолета.
Он думал: самая точная, самая выразительная модель возможной катастрофы. Его катастрофы… В натуральную величину, так сказать.
За долгие годы в авиации Хабаров навидался всякого. И если это заранее запланированное падение пустой машины так цепко овладело его воображением, то тут были не только эмоциональные, но и сугубо технические причины.
Дело в том, что самолет взлетал с наглухо законтренными, то есть неподвижными, рулями. Сделано это было, разумеется, преднамеренно, чтобы в момент разгона на стартовой установке летчик случайным толчком не отклонил ручку управления и не создал тем самым аварийного положения близ самой земли. Через шесть секунд после старта автоматическое устройство должно было расстопорить рули, и только с этого момента машина становилась покорной воле пилота. Ну, а если автоматика не сработает или сработает недостаточно четко? Тогда человек окажется в самом худшем из всех мыслимых положений: самолет лишен управления, а у летчика нет высоты, и следовательно, покинуть машину с парашютом невозможно.
И все-таки Хабаров сам настаивал на взлете с застопоренными рулями. С инженерной точки зрения такое решение выглядело наиболее строгим — оно исключало случайность.
Теоретически это решение обеспечивало наивысшую безопасность. А практически? Но, собственно говоря, для того именно и существуют летчики-испытатели, чтобы отвечать на подобные вопросы…
Дома Хабарова ждало письмо.
Надо сказать, дней за десять до этого он получил первое письмо от старшего лейтенанта. Тогда Блыш писал, что хочет еще раз поблагодарить Хабарова за его неоценимую помощь, просил извинения за тон, который он допустил в разговоре на земле и, главное, объяснял, почему он все-таки не открыл фонарь на снижении.
«Мне очень неприятно, — писал Блыш в своем первом послании, — что вы могли всерьез поверить, будто я берег парадный вид мундира. Дело в том, что мне еще прежде случалось попадать на этой машине в сильный ливень, когда встречным потоком так заливает лобовое стекло (отчасти и боковые стекла), что исчезает всякий намек на прозрачность плексигласа. Я пробовал в таком положении открывать фонарь, и оказалось — еще в сто раз хуже! В щели между козырьком и сдвижной частью образуется разрежение, воду со страшной силой засасывает в кабину, и в один момент вся физиономия делается совершенно мокрой. Вот я и опасался, что на том заходе у меня потянет не воду, а масло и я до самой земли буду протирать глаза…»
Блыш оправдывался настойчиво и добросовестно.
Хабаров был в преотличном настроении и черкнул в ответ несколько шутливых строк.