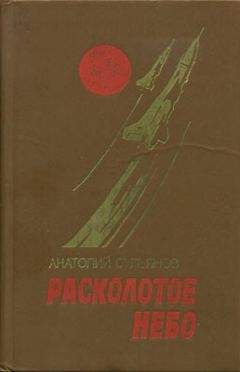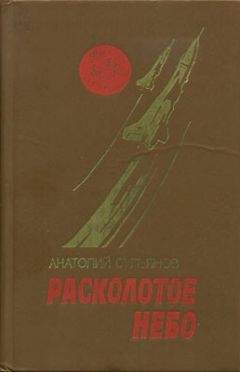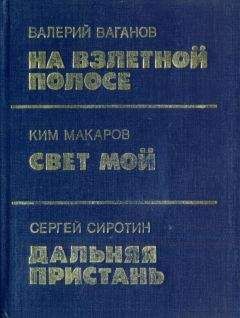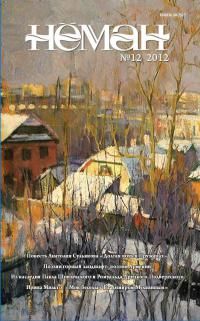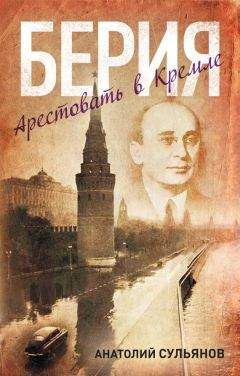— Есть предложение потанцевать, — предложил Муромян.
Мужчины осторожно отодвинули стол к стене — образовалась маленькая площадка, на которой могли уместиться лишь две-три пары.
— Опробуем новую радиолу! — Николай поставил пластинку. После короткого вступления послышался знакомый голос: «А где мне взять такую песню и о любви, и о судьбе? Но чтоб никто не догадался, что эта песня о тебе…»
Диск вращался медленно, так же медленно разливалась по комнате песня. Николай какое-то время стоял, не шелохнувшись, но, когда Анатолий и Шурочка вышли на пятачок, поспешил к Лиде.
Лида стояла в стороне, о чем-то разговаривала с Леной Муромян. Увидела Николая, протянувшего руки, радостно шагнула навстречу. Он держал ее бережно, едва касаясь. Танцевал медленно, почти не двигаясь; ему хотелось просто стоять рядом с Лидой и слышать ее дыхание, чувствовать в своей ладони ее руку.
Диск остановился. Николай хотел было поставить пластинку еще раз, но в дверь постучали, и на пороге показался Геннадий. Он был в черном костюме и в рубашке стального цвета. Раскланявшись, вручил Шурочке букет ярко-красных роз, поцеловал в щеку.
— Давайте — и воздастся вам! — пошутил Николай. — Лида, ты на всякий, случай бдительности не теряй! А ты, старик, не забывай древнего мудреца: «Мужчина прощает и забывает, женщина только прощает».
— Умная женщина не будет долго сердиться, Кочка, — ответил Геннадий, проходя к столу.
— Мне бы хотелось предложить тост вот за что. Здесь, в родном полку, мы стали летчиками. Здесь, на земле и в воздухе, мы обрели настоящих друзей. Здесь мы мужали, закаляли волю, вырабатывали характер. За родной гвардейский полк! За дружбу! — Геннадий поднял бокал с шампанским, чокнулся и выпил. Поманил к себе Николая. Тот подошел и наклонил голову. — Радуйся! Только что пришло разрешение отправить тебя на медицинскую комиссию в Москву.
Николай резко выпрямился, ошалело поглядел на Геннадия, обнял его:
— Ну, старик, за такую новость…
— Перестань. Спиртному конец. Понял?
— За всю осень — два бокала сухого вина.
— Ну и молодец! Давай веди вечер — тебя ждут!
Николай выпрямился, обвел всех взглядом, полным радости, и громко произнес:
— Прошу наполнить бокалы. Были тосты за именинницу, за ее друзей. Теперь предлагается авиационный тост. — И, дождавшись тишины, запел на знакомый мотив:
Давайте выпьем мы горилки
За то, чтоб век наш устранил
Все катастрофы, предпосылки,
Да чтоб порядок в небе был,
Да чтоб никто не заикался
Об аварийности и зле
И чтобы каждый взлет кончался
Посадкой мягкой на земле!
Все засмеялись, зааплодировали. Николай снял со стены гитару:
— Слова известного поэта, музыка собственная! Поем все!
Николай начал тихо, едва перебирая струны:
Мне бы успокоиться, молча посидеть,
Мне бы в чисто полюшко долго поглядеть,
Затаив дыхание посреди веков
Последить за таяньем белых облаков.
Подпевали только Геннадий и Анатолий: они стояли рядом с Кочкиным, остальные, видимо, не знали слов.
Самым тихим голосом мне бы не спугнуть
Сонный шепот колоса, что решил вздремнуть.
Мне бы вспомнить пройденный путь, что невелик.
Снова в слове «Родина» услыхать родник.
А в безмолвном пении малых родников
Услыхать кипение будущих веков.
Вот и чисто полюшко — ясный синий цвет.
Мне бы успокоиться, да без неба — нет.
…В окнах потемнело — на гарнизон опустился вечер. Все отправились в офицерский клуб. Тополиная аллея была полна людей: одни спешили на осенний бал, другие на прогулку, третьи возвращались со службы.
Шурочка шла об руку со Сторожевым. Прохожие посматривали на нее и будто не узнавали. Ее румяное лицо было чистым и ясным, плавные линии платья подчеркивали статную женственную фигуру. Что-то новое появилось во взгляде: в нем плескалась радость.
* * *
Спустя два дня провожали Кочкина. Николай выглядел, как всегда, бодрым и веселым, шутил, вызывая взрывы смеха.
— Ну Кочка, возвращайся побыстрее с одним диагнозом: здоров!
— Постараюсь, старик! А вы готовьте спарку — год неба не нюхал! По ручке ух как соскучился!
— Приготовим, не сомневайся.
— Ох, братцы, и летать хочется! Никогда в жизни так не тянуло в кабину! Нет, наверное, горшего наказания, чем лишить летчика неба. Первая любовь! А первая любовь не ржавеет.
Лида стояла молча, прислушиваясь к разговору. Когда он заговорил о небе, подошла поближе, тихо проговорила:
— В дороге старайся не думать о медкомиссии. Когда много о чем-то думаешь, невольно начинаешь волноваться.
— Спасибо, Лида, за совет. А что ты мне пожелаешь?
— Господи, ну конечно: «Годен без ограничения», как пишут в летных медкнижках.
— Спасибо!
Николай попрощался с друзьями, сел у окна и, пока автобус медленно отходил, махал рукой.
В новые обязанности Васеев вживался медленно. Не так быстро, как ему хотелось, приобретались в будничной текучке уверенность в своих действиях и опыт. Однако — приобретались. Особенно хорошо шли дела, когда актив помогал. И партийный и комсомольский. Постигая мудреную командирскую науку, он не раз обращался к Северину и всегда уносил от него дружеские и нужные для дела советы. Учись, говорил ему Северин, хорошо мыслить, хорошо говорить, хорошо поступать. Прежде чем принять решение, посоветуйся, поговори, создай должный настрой у людей, а уж потом отдавай приказ. Учись слушать людей, не давай повода думать, что ты умнее других. Будь снисходителен к подчиненным. Снисходительность — сестра доброты. Это не означает, что в отношениях к людям ты должен быть только добрым. Нужна и требовательность, без нее нельзя руководить воинским коллективом.
Все шло хорошо, если бы не новый проступок Мажуги.
Узнав о нем, Горегляд не мог сдержать раздражения.
— Хватит с меня! Прав был замполит: судить этого гуляку давно надо было! Я тогда, дурень, не соглашался! Да еще эти защитнички! — Степан Тарасович покосился на телефон. — Полк, видите, им жалко — на первое место выходит! А вы, Васеев, почему отпустили Мажугу в город? На каком основании, доложите!
Васеев стоял вытянувшись, с бледным и осунувшимся лицом.
— Он сказал, что для решения личных дел. Я даже подумал, уж не собрался ли жениться.
Горегляд стукнул кулаком по столу.
— Святая простота! Сколько я в полку, столько Мажуга собирается жениться! Он обвел вас вокруг пальца!
— Возможно, — согласился Васеев. — Но какие у меня были причины для отказа? Никаких. Мне верят, и я привык верить людям.
— Это хорошо, что вы верите людям, — сказал Северин. — Но Мажуга всем нам так часто лгал…
— Хватит. Довольно о Мажуге! — Горегляд тяжело хлопнул ладонью по столу. — Решение такое: судить. Начштаба, подготовьте приказ! А вам, Черный, как председателю суда офицерской чести — к производству. Срок — пять дней!
Офицерский товарищеский суд чести собрался на свое заседание в клубе. Возле сцены, за длинным, покрытым зеленым сукном столом сели судьи: Черный, Редников, Выдрин, Муромян. На отдельной скамье, между рядом и столом суда, понуро опустив плечи и склонив голову, сидел Мажуга. Передние ряды заняла ветераны, опытные, много лет прослужившие в части офицеры, позади них расположилась молодежь. Лейтенанты сидели кучно, настороженно — на суде первый раз в жизни.
В зале была тишина: никто не перешептывался, не скрипел стульями — все выжидательно смотрели на Мажугу. Давно суд чести не собирался — поводов не было.
Черный встал, постучал карандашом по графину. Задержал взгляд на Мажуге:
— У вас к составу суда отводы есть?
Мажуга вскочил, вытянул руки, негромко ответил «нет» и продолжал стоять по стойке «смирно». Его редко видели аккуратно одетым и подтянутым, сегодня же он пришел в тщательно отутюженных брюках, новой рубашке и новом кителе. Галстук тоже был неношеный. Весь его вид, казалось, утверждал, что с прошлым покончено и он готов измениться к лучшему. Для него это не просто собрание офицеров. Доверят, простят — всех дружков в сторону, за дело — по-настоящему…
— Согласно решению командира полка, — начал Черный, — на рассмотрение офицерского товарищеского суда чести выносится дело о проступке начальника группы обслуживания старшего лейтенанта Мажуги Федора Николаевича. Обстоятельства следующие: офицер Мажуга получил разрешение на выезд из части у исполняющего обязанности командира эскадрильи капитана Васеева…
Услышав свою фамилию, Геннадий от неожиданности вздрогнул. Ему вдруг показалось, что в случившемся виноват и он: не отпусти в тот вечер техника в город, ничего, возможно, и не произошло бы. Он почувствовал на себе осуждающие взгляды десятков людей, и от этих взглядов его бросило в жар. Щеки и уши вспыхнули, высокий открытый лоб покрылся испариной. Дела-а…