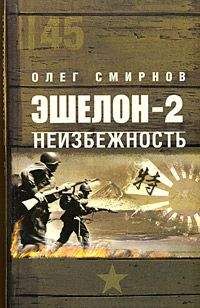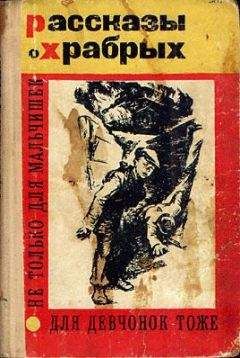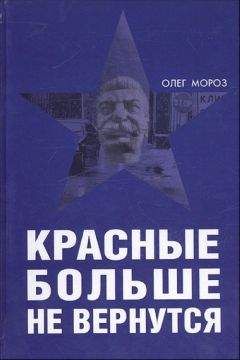Песня была жалостная, популярная у блатных. Я вспомнил про бесстыжие татуировки у каспийского рыбака и как солдаты выспрашивали его, не блатняк ли он. Логачеев отнекивался вполне, кажется, искренне. Я верил, что наколки эти — по дурости.
Логачеев допел жалостно:
И умру я, умру я,
Похоронют меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя…
Когда был жив и исполнял свои танго Егорша Свиридов, Логачеев никогда не нел. Может, в этом была некая тактичность: не хотел мешать Свиридову, перебегать дорогу признанному исполнителю. Мои солдаты, точно, не лишены такта. Не раз, например, вспоминаю, как молчаливо, без расспросов встретили они Филиппа Головастикова, догнавшего эшелон после вояжа в Новосибирск, к неверной жене. Выслушали лишь то, что пожелал он сам высказать. И никаких комментариев. Нет, мои солдаты — славные хлопцы, я их недаром люблю.
Вчера на закате солнце осветило ротный строй сзади, и мне почудилось, что фигуры черные и четкие, как мишени. Чушь и бред — мишени, в них стреляют, а это же фигуры живых людей, правда, в живых тоже стреляют, по ведь мы удаляемся от войны.
Все знакомо по прежним, бессчетным маршам: течет пот, чавкает грязь, автомат колотит по горбу, ноет поясница, дрожат коленки, точит. мысль: не отстал лп кто? И тем не менее это какой-то особенный марш. Победный. Вроде мы с победой возвращаемся с войны. Вокруг говорят и пишут о капитуляции Квантунской армии, и ясно, что через несколько дней, через педелю, пусть через две японцы окончательно сложат оружие, и наступит День Победы над Японией. Вот тогда можно крикнуть «ура», пальнуть вверх ц ахнуть стаканчик! И за порогом того дня будет лежать уже бесповоротно мприая жизнь!
Во мне в такт шагам клокочут слова-рифмы, на привалах тянет записать их в блокнотик, по я гоню это желание. Тьфу, тьфу!
Сгинь, наваждение! Чтобы писать стихи — не про слепых котят и резвых щенят, а про Победу, павших героев и товарища Сталина, — нужен талант. Где он у меня? Как-то я прочитал остроту: талант — как деньги: или он есть, или его нет. У меня нет, а одного вдохновения мало. Не такой уж я глупый, зеленый и самонадеянный, чтобы не видеть: дурачок я для стихов. Не дурак — не надо грубостей, — а именно дурачок. Лучше записать в блокнотик некоторые свои мысли и наблюдения.
На дежурстве в траншее, зимней, заметенной, под Оршей. солдаты натирали снегом уши, чтобы не уснуть.
Я случайно не погиб под Оршей в нашем зимнем наступленнп сорок четвертого: такая была мясорубка. В нормальной жизни говорят по-другому: случайно погиб, — так редка смерть.
А здесь — случайно не погиб…
На войне как бывает? Сдаст солдат свое письмо-треугольник старшине, а через час убьют, и получается: послание как бы с того света.
В боях я не боюсь смерти, вернее, понимаю, что она может быть неизбежной, одного желаешь: чтоб без мучений, раз — и готово.
Какое же оно все-таки вкусное, просторечье! Вот, например, видальщина — обыкновенное событие, которое можно часто наблюдать. Или: огребки — остатки сена после укладки стогов. Или: погон — то же, что и погоня. Или: до новых веников, то есть нескоро.
В Китае и куры с петухами черные! А кора на черных березах лохматая — как лохмотья у нищих, которых здесь много.
"Чего пялишься?" — "Я визуально наблюдаю".
Я за исполнительность. Но при утрате меры она может перейти в угодничество.
Некоторые из мыслей и наблюдений, записанных в мой блокнотик, кажутся мне удачными. Нескромно? Несамокритично? Показать, что ли, Федору Трушину? Зачем? Это для себя. Для души.
Он вгляделся в свое отражение в большом, с потемневпшм от времени углом, зеркале: зарос седоватой щетиной. Не брился, события не давали. Теперь пора привести себя в порядок. Тем более что ему, Отодзо Ямада, главнокомандующему Кваптунской армией, и его начальнику штаба Хикосабуро Хата надо ехать на доклад к командованию русской 6-й танковой армии. Ее штаб разместился неподалеку: танкисты не стали занимать здания штаба Квантунской армии. Что ж, понятно: его, видимо, займет штаб Забайкальского фронта.
Из-под припухлых век Ямада смотрел в свои глаза под припухлыми веками, взгляд был беспокойный. Крупные уши оттопыривались сильно и как-то обреченно. В курсантские годы товарищи исподтишка потешались над этими ушами, хотя и тогда Отодзо Ямада не терпел над собой шуток. А уж впоследствии, особенно когда стал главнокомандующим Квантунской армией, повелителем Маньчжоу-Го, его окружали уважение, почтительность и подобострастие, сам император Пу И трепетал перед ним, хотя он числился лишь послом Японии. Где вы, давние шутники? Никто из вас не поднялся по служебной лестннце выше, чем Отодзо Ямада.
Орденские ленточки на мундире сливались в зеркале в какоето пестрое пятно: глаза заслезились, да и зеркало старое, потускневшее, а в темпом его углу, казалось, гнездится что-то угрожающее, опасное, как смерть. А он не хотел умирать. Это в молодые, бесшабашные годы можно играть жизнью, в зрелые, тем более такие, как сейчас, — ею дорожишь. И с каждым прожитым днем она становится дороже! Сейчас некоторые генералы, маршалы, министры покончили с собой: кто совершил традиционное харакири, кто на европейский лад застрелился, кто принял яд кураре.
А разумно ли это — уходить в иной мир, когда и в этом многое недоделано! Ведь если смотреть вперед, а не назад, то есть надежда: для будущего возрождения Великой Японии еще пригодятся и генералы и министры. Мы повержены, но истечет исторически короткий срок — и все вернется: войны, победы и Великая Япония. Кадры, кадры для будущей воссозданной армии нужно сохранять. Поэтому и генерал Отодзо Ямада сохранит себе жизнь.
За сегодняшним позором встает будущая борьба. И никакой обреченности быть не может. Но как же тяжело дается эта вера в грядущее, когда все смято, раздавлено, растоптано, кажется, танками той самой 6-й армии генерала Кравченко, к которому нужно ехать.
Из темного угла зеркала будто выдвинулся на миг некто в белой одежде и с белой, седой головой и тут же исчез. И подумалось:
"Не я ли это через десяток-другой лет?" Исчезнет когда-нибудь Отодзо Ямада, переселится в загробный мир, по до этого он еще послужит здесь, на земле, "венценосному журавлю" — императору Хирохито и Великой Японии. Нет, харакири он не совершит, стреляться не будет и яда не примет. Но видение, возникшее пз затуманенного угла зеркала, томило и тревожило, слишком уж оно было явственным. Узреть его лишний раз не хотелось.
Ямада отошел от зеркала, сухотелый, сутуловатый, кривоногий. Глаза у него сделались почти что добрыми, и, если б на нем вместо военной была гражданская одежда, его вполне можно было бы принять за тихого, смирного старичка. А это был главнокомандующий! Правда, армия его перестала существовать, испускала последние вздохи, билась в агонии, имя которой — капитуляция. Да, так повернулась судьба: главнокомандующему приходится готовить свою армию к разоружению и сдаче в плен.
Заплетающимся, неверным шагом Ямада подошел к зарешеченному окну, за которым во внутреннем дворике орденскими пятнами пестрели цветы, походил возле письменного стола и возле круглого стола, за которым он и принимал советских парламентеров в тот памятный ему день — девятнадцатого августа. Столы и стены кабинета были полированные, блескучпе, смутно отражали тщедушную фигуру генерала. Некстати Ямада подумал: над его ростом курсанты не потешались, японцы — нация малорослая.
А вот начальник штаба Хата — высокий, грузный. Скоро в этом кабинете будет восседать маршал Малиновский. Интересно, переделает ли Малиновский кабинет по своему вкусу? А-а, не то должно волновать Отодзо Ямада. А что? Хотя бы то, что война Японией окончательно и бесповоротно проиграна.
А ведь были иные времена! Времена, когда внезапный, сокрушительный удар должны были нанести они, японцы. Прекрасные планы рождались в генеральном штабе, надо отдать должное — там были незаурядные умы. Например, план "Особые маневры Кваптупской армии": вторжение японских войск в советское Приморье и Забайкалье с последующим захватом Дальнего Востока и Сибири. Кто из пас не повторял крылатой фразы: "Когда солнце над Токио, лучи его должны освещать всю великую Японскую империю до Урала"? Конечно, русские были начеку. Еще до нападения Германии на Советы они преобразовали Дальневосточный военный округ, а в сорок первом Забайкальский — во фронты с вполне определенными оборонительными задачами. Мы знали, что нам противостоит около сорока дивизий, которые русские, несмотря на всю тяжесть войны с Германией, держали на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Это-то и тормозило наше выступление, да и печальный опыт Хасана и Халхип-Гола предупреждал:
Красная Армия — сильный противник. Вероятно, эти два обстоятельства не дали политическому и военному руководству Японии рискнуть ни в сорок первом году, когда вермахт был под Москвой, ни в сорок втором, когда вермахт был под Сталинградом. Ждали как сигналов для выступления падения Москвы, затем Сталинграда, но так и не дождались. С начала сорок пятого года главное командование заговорило об оборонительном варианте для Кванту некой армии: подействовали громкие победы русских на советско-германском фронте. Оборонительные планы возникали один за другим, последний — в июне: сосредоточить основные силы Квантунской армии на Маньчжурской равнине, оставив в приграничной полосе войска прикрытия — приблизительно треть сил ц средств армии. Решающее сражение предполагалось дать на липни Чанчунь — Сышгагай — Мукден, нанести поражение советским войскам в районе Чанчуня и Мукдена, в последующем преследовать противника вдоль КВЖД до станции Карымская, другие войска должны были повести наступление на Хабаровск, Никольск-Уссурийский, Владивосток. Ах эти светлые умы в генштабе, — все развивалось не по их планам! Ах эта самурайская уверенность — она обернулась провалом! Ведь даже его начальник штаба Хпкосабуро Хата, бывший в свое время атташе в Москве и знавший русских, поверил в этот блеф. Да, блеф, иначе это не назовешь!