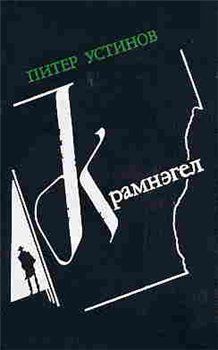В ту зиму о наступлении или отступлении и речи быть не могло. Природа властвовала над землей, издеваясь над бессилием сверхчеловеков. Снежинки падали беззвучно, с оскорбительной грациозностью. Редкие выстрелы впавших в спячку орудий почти не сотрясали воздуха. Пар от человеческого дыхания был виден чуть ли не за километр. Оставаться в живых было ни хорошо, ни плохо. Несущественно.
Деревня Плещаница находилась на занятой немцами территории, неподалеку от линии фронта; она представляла собой беспорядочное скопление унылых домов. Жители воспринимали оккупацию равнодушно: не вели себя с величавым достоинством и не выказывали ни малейшего подобострастия. Холод подавлял всевозможные эмоции. Если местный немецкий начальник издавал какой-то приказ, никто не проявлял недовольства, но обеспечить выполнение приказа было так же трудно, как угодить им жителям деревни. Зима являлась общим врагом, и вскоре в долгой, белой, свистящей ветрами ночи обе стороны перестали обращать внимание друг на друга.
В деревне жила женщина по имени Валерия, не то медсестра, не то артистка, но не местная уроженка. Она не успела вовремя эвакуироваться и теперь жила в доме председателя сельсовета, в одной комнате с пятью или шестью невесть откуда взявшимися беженцами. Глаза у нее были блестящими, нескромно-соблазнительными, мужчины отворачиваются от взгляда таких глаз, потому что ответить на их призыв при людях стыдно. Копна светлых волос спадала на ее лоб кудряшками, нос был маленьким, вздернутым, с широким кончиком, по бокам собранных розочкой губ виднелись две изящные, напоминающие кавычки морщинки, над верхней губой красовалась родинка, высоко на щеке другая. Все это создавало впечатление грубой чувственности, нудной, но неутолимой похоти. Она пускала в ход все вульгарные уловки безработной актрисы, для которой жизнь — это череда любовников, цепь циничных непостоянств. От нее пахло дешевыми духами и табаком, для поддержки настроения она пела цыганские песни.
Валерия случайно попалась на глаза Гансу, но он посмотрел на нее без интереса, как на прибитое к берегу сплавное бревно среди множества прочих. Однажды она явилась в избу, где Ганс устроил штаб взвода. На ней было толстое стеганое пальто, скрывавшее очертания фигуры, и нелепый вязаный башлык. Стоявший у дверей часовой впустил ее, потому что не понимал по-русски и решительностью не отличался. Ганс писал за столом какое-то донесение, и когда женщина вошла, едва взглянул на нее.
Валерия заговорила глубоким, ласковым контральто, но чего ей нужно, было непонятно. Ганс поднял голову и увидел взгляд этих блестящих нескромных глаз чуть навыкате. Потупился, покраснел и сделал вид, будто изучает какой-то документ. Спросил по-немецки, чего она хочет. В ответ хлынул поток русских слов — судя по интонациям, это была просьба, но высказанная рассудительно, с ноткой смирения в конце. Ганс вновь поднял взгляд, потому что ничего другого не оставалось. Женщина была старше сорока лет, потасканная, однако глаза ее напоминали тюремные окна с протянутыми сквозь решетку руками. Он нахмурился и опустил взгляд на бумаги.
Женщина подошла поближе и взяла со стола какой-то бланк. Ганс сердито спросил, что она делает, и почувствовал, как ее бедро прижалось к его плечу. Обычно при случайном соприкосновении люди поспешно отстраняются друг от друга с многословными извинениями, чтобы их оплошность не была истолкована превратно. Валерия не отступила ни на дюйм, а лишь крепче прижалась к его плечу, словно животное к столбу.
В ответ на его грубый вопрос она улыбнулась, слегка опустила ресницы, словно шторы над заманчивой лавкой, и снова принялась говорить бесконечно, рассудительно, надувая губы. Ганс стал защищаться от нее тоже словами, набором случайных, нерешительных фраз. Зная, что женщина не поймет, он говорил, что приходило в голову, и легонько, ритмично постукивал для убедительности карандашом по столу. Он не думал ни о смысле, ни о грамматике, потому что ощутил мягкую теплоту этого бедра и осознал, что тоже не отстранился. Поднял взгляд и увидел в лице женщины веселое торжество. Откашлялся. Она положила ему на стол потускневшие фотографии. Красивый мужчина с безжалостными глазами преступника, словно бы снявшийся для документа. Она, сидящая, прикрывая рукой глаза от солнца и скрестив лодыжки, на качелях, из черт лица видны только губы с просунутым между ними кончиком языка и идущая от их уголка косая морщинка. Она в полосатом купальном костюме с пуританской юбочкой, но мокром и непристойно облегающем тело, внизу в лучах предвечернего солнца видны морские суда, отбрасывающие длинные тени. Она с тем мужчиной, оба в купальных костюмах, его костюм с вырезами на боках по моде тридцатых годов оттопыривается в паху. С какой целью она показывает эти фотографии? Хочет похвастаться, что знавала лучшие времена?
Женщина снова взяла бланк и жестом показала, будто пишет. Ганс сказал ей, что никакие бланки нельзя заполнять без предварительного заявления о приеме, и должен пройти определенный период на проверку — он сам толком не понимал, что говорит и зачем, пытался выиграть время, выиграть невесть что. Бедро, прижавшееся к его руке, пульсировало, то самое бедро, что и на фотографии, бедро, которое, придя в движение, затрясется по-африкански. Она взяла фотографии и приложила их к бланку. А это что еще? Просит о какой-то уступке от имени кого-то другого?
Ганс поглядел на нее. Мрачная, горячая женщина была воплощением секса. Он сглотнул. Горло его так пересохло, что он закашлялся, в пищеводе начался невыносимый зуд. Она похлопала его по спине, а когда приступ кашля прошел и он сидел, тяжело дыша, со слезящимися глазами, ее рука медленно поползла к его затылку, ноготь с дьявольской нежностью провел черту по корням его волос. Ганс неудержимо содрогнулся и взглянул на нее. Женщина знала, что делала.
Она что-то сказала, видимо, «пойдем». Ганс поднялся. Притворство помогло ему. Женщина говорила так, словно знала нечто, заслуживающее внимание, нечто такое, что немцам следовало знать. Он мог делать вид, что напал на след какой-то преступной деятельности. В голосе женщины, несмотря на ее обеспокоенное лицо, звучали разговорные интонации. Держа в одной руке бланк, в другой фотографии, она настойчиво указывала подбородком на дома за окном. Ганс подошел к окну и пристально уставился на прекрасно знакомый вид. Женщина подошла к двери. Ганс следом. Они вышли на талый снег.
— Если кто спросит, скоро вернусь, — отрывисто сказал он часовому, потом беспричинно добавил: — Положение очень серьезное…
Ганс пошел за Валерией между снежных валов по обочинам дороги. Она не оглядывалась, и ему внезапно показалось, что на нем надета уздечка и повод у нее в руке. Они зашагали по снегу, который набивался им в сапоги и превращался в талую воду. Она подвела его к самому валу, потом через него, к задней двери дома председателя сельсовета.
Когда они вошли, Ганс спросил самым официальным тоном, на какой был способен:
— Чего в конце концов вы хотите?
Женщина пропустила его вопрос мимо ушей и заперла дверь, ведущую в другую комнату.
— Это ловушка? Вы партизанка?
Женщина сбросила сапоги и поставила возле большой изразцовой печи в углу. Сняла шерстяные чулки, положила рядом с сапогами. Медленно пошевелила пальцами ног, словно восстанавливая в них кровообращение, потом бросила на него цыганский, предвещающий неизбежное взгляд. Ганс покраснел и топнул ногой. Будто жеребец в стойле. Женщина сняла пальто, башлык и встряхнула кудрями. Прядь волос закрыла глаз, и она смотрела сквозь них на Ганса.
— Не понимаю, зачем вы привели меня сюда, — сказал он.
Валерия подняла подол платья и недовольно проворчала, что снег набился повсюду. По подолу тянулась неровная влажная полоса. Повернувшись к Гансу спиной, женщина расстегнула на платье несколько пуговиц и сняла его через голову. Ганс не мог ни найти слов, ни выйти из дому. Женщина, не поворачиваясь, так и стояла в старой розовой комбинации. На спине у нее были веснушки. Голова ее была опущена, словно в раскаянии, будто она уже согрешила. Бедра ее были массивными. Игра света на блестящем искусственном шелке подчеркивала очертания ее тела, розовый ландшафт залитых светом вершин, гладкие участки и неожиданную тень впадин. Стояла она неподвижно, как статуя, и Ганс, черт ее побери, начал дрожать. Сделал шаг, хрустнув занесенным в помещение гравием. При этом звуке спина женщины слегка напряглась. Сзади в коленных сгибах у нее синели вены. Ганс смотрел на ее спину, на золотые хлопья веснушек по белому фону, чувствовал запах тела и дешевых духов. Вокруг его сапог образовались лужицы, ноги замерзли. Он подошел поближе. Голова женщины слегка запрокинулась, шея выдалась вперед. Глаза ее, очевидно, были закрыты. Ганс слышал свое дыхание, ощущал сильное биение пульса. Коснулся носом ее волос, они были жесткими и щекотали. К аромату духов снова примешался запах табака, заглушив их противную приторность и добавив возбуждающую крепость дыма. Нос Ганса уткнулся в ее голову, лицо утонуло в желтых джунглях. Он положил холодные руки на плечи и ощутил, как по ее телу прошла дрожь. Его пальцы принялись играть с двумя узкими полосками ткани; он оттягивал решающую минуту. Потом комбинация соскользнула на пол. Валерия неистово обернулась, ее рот с выпяченными губами стал огромным. Губы его утонули в пещере пульсирующей влаги, пуговицы мундира расстегивались под пальцами неистовой, бесчувственной руки.