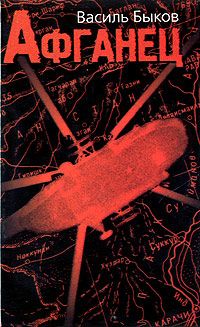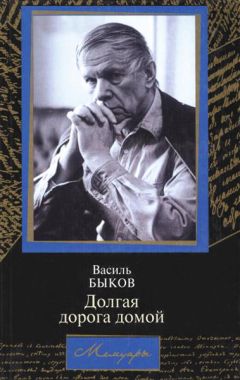Если уж начнется — поди угадай все последствия и предусмотри течение событий в тех раздражительных отношениях, они способны повести за собой тебя сами, иногда наперекор твоему личному желанию. Так произошло и с Николаем. Сначала как-то повздорили жены, жена Демидовича Полина Александровна однажды вечером пожаловалась на Ядвигу Ивановну, он подумал: вздор, промолчал даже. Но через несколько дней сам услышал на перемене, как женщины-учительницы вспоминали его имя именно в связи с его квартирой. Стало обидно, и он при случае сказал Николаю, чтобы тот немного укоротил язык своей супруге. Тот не стерпел, заносчиво ответил в том смысле, что не нужно было давать повода, не понадобилось бы и укорачивать языки людям.
“Это каким людям?” — взвился Демидович.
“Сам знаешь, каким”, — сказал Николай Тарасевич, и разговор на том оборвался.
Разговор-то оборвался, а конфликт этим не исчерпался. И когда вскоре на партактиве в докладе секретаря райкома Катушкина были подвергнуты критике некоторые учителя района, преимущественно за националистический уклон, в прениях выступил Николай Тарасевич, явно выгораживая тех учителей. Тогда взял слово Демидович и, глядя в глаза своему недавнему другу, сказал, что вместо того, чтобы оправдывать других, товарищ Тарасевич должен был бы прежде признать собственные промахи в этом вопросе: и как нахваливал “Новую землю” Коласа, некоторые стихотворения Купалы, и как недооценивал пролетарскую поэзию Чарота и Александровича. Он тогда многим открыл глаза на истинную сущность учителя белорусского языка и литературы Тарасевича и нисколько не раскаивался в этом. С большевистской прямотой он сказал правду, ничего не придумал и не утаил. О “Новой земле”, например, сколько они переговорили в те годы, когда были наиболее дружны. Тарасевич тогда был в восторге от этой безусловно вредной кулацко-националистической поэмы. А между тем, сами Колас и Купала выступали в печати с чистосердечным признанием собственной контрреволюционной деятельности, которую доныне не мог распознать в их творчестве член партии и учитель Николай Тарасевич.
Их дружба с того времени, конечно же, ухнула, Тарасевича через некоторое время посадили, но за что конкретно — этого Демидович не знал. К той посадке он не имел совершенно никакого отношения. Тут его совесть чиста. В то время он уже работал в райкоме, и с посадкой Тарасевича, должно быть, постарались другие. Но не Демидович…
Где-то среди ночи его разбудила Серафима, принесла кружку горячего питья, которое пахло чебрецом. Он сонно пил, обессилено, без желания, будто застарелый больной, и, выпив, пластом свалился на лохмотья Серафимы. Как будто немного согрелся, хоть лихорадка не оставляла насовсем его простуженное тело, но внутри стало легче, он покашлял и раскрыл глаза.
Серафимка горестно вздыхала, по темному и низкому потолку блуждали туманные отблески из грубки, и Демидович удивился своей неожиданной мысли: вот где так безотказно нашел убежище… Думал ли он когда-нибудь, что в самый для него трудный час приветит его эта темная женщина, родная сестра его, можно сказать, идейного врага? Если б это раньше случилось, при встрече с ней он бы не поздоровался даже, сделал бы вид, что незнаком. В самом деле, иметь какие-либо связи или поддерживать знакомство с семьей врагов народа, националистов и контрреволюционеров было более чем неразумно — было преступно, и многие поплатились за это. Он же всегда стремился ничем не запятнать свою честь большевика-партийца.
Тогда в местечке, когда вернулся этот Асовский, его не было дома, он помогал шурину чинить гонтом кровлю на истопке, куда они ссыпали выбранную в огороде бульбу. Когда прибежала жена с ошеломляющей новостью, он не поверил даже, но, похоже, она не ошиблась. Асовский, говорила, старый уже и обессиленный, приперся после обеда в дом и в первую очередь спросил о Демидовиче. С какой целью он это спрашивал — было понятно без дальнейших уточнений; жена ему что-то не очень правдоподобное соврала и побежала предупредить мужа. Услышав новость, Демидович на несколько минут растерялся, а затем выразительно посмотрел на шурина и впервые увидел, как этот добрый, простодушный человек отвел глаза. Демидович еще ни о чем не попросил его, а тот уже забормотал о детях, что они еще маленькие, и что он человек рабочий, ему один черт, какая власть, была бы картошка да кусок хлеба к ней. Демидович понурил голову, умолк, а когда наступил вечер, бросил в сумку кусок хлеба да сала и простился с женой. Знакомых в районе у него было полно — учителей, партийного актива, колхозников, думал: может, и хорошо, что шурин не принял — найдет не хуже пристанище в каком-либо глухом месте. Может, еще лучше будет.
Первым делом он направился в Замошьевский сельсовет, ближе к пуще; это был самый глухой и далекий угол в районе, и там, в Замошье, был у него друг, тоже учитель, Прокопенок, с которым он три года подряд принимал участие в агиткампаниях. Опять же, Демидович не раз бывал там уполномоченным в подписке на заем и знал многих людей. Уж там ему не дадут пропасть, там ему помогут.
Чтобы не досаждать излишне кому-то, пошел ночью, проселками, отмахал километров тридцать и под утро постучал в знакомое высокое окно Прокопенка. Боялся, что не застанет его дома, может, тот подался в эвакуацию. Ан нет, Прокопенок был дома. Вскоре они уже сидели на кухне, выпили по рюмочке и сетовали на общую их беду.
Обстановка в Замошье тоже была непростая, некоторые из людей, даже честных и тихих, теперь начали показывать свой норов. Прокопенок рассказывал, как его вчера на улице остановил одноглазый Зуб и пригрозил: дескать, ваша власть кончилась. Прокопенок все же решил с ним поговорить, ему важно было понять, почему так вдруг переменился этот работящий человек, отец семерых детей. Оказывается, тот не переменился, он всегда помнил, как уполномоченные с Прокопенком взыскивали с него деньги на заем.
“Так что ж ты хочешь? — сказал Прокопенок. — Раз подписался, надо было и платить”.
А тот ему:
“Напомнить вам, как подписывали? Если память короткая?”
Как подписывали — Прокопенок помнил и потому свернул ненужный разговор. И теперь вот сидит, как на угольях, ждет. Ушел бы куда в лес, если б не семья да двое малых. Куда от них денешься?
Демидович совсем помрачнел, готов был впасть в отчаяние и спросил только:
“Ну хоть до вечера можно побыть?”
“До вечера можно, — говорит, — но не дольше. Сам понимаешь…”
Что ж, он понимал, все же он был человек с сердцем и не желал беды детям Прокопенка.
Полежав на чердаке до вечера, он, когда смерклось, взял свою сумку и начал прощаться.
“И куда ж ты теперь?” — спросил друг.
И Демидович сказал:
“А никуда”.
Он и вправду не знал, куда податься. Лучше бы в лес, если бы было лето, но, к сожалению, лето кончилось, на пороге стояла осень. Дули холодные ветры, рыжие листья с берез падали Прокопенку во двор…
Ночью, идя по пустой и вязкой дороге из Замошья, он подумал, что, видно, приюта у прежних друзей не найдет — те сами боятся, ибо, конечно же, все на подозрении. Сложно было и трудно все предвоенные годы, накопилось много горечи в отношениях между своими же, остались недобитые и недораскрытые враги, которые теперь вот показывают клыки и надеются на немцев. Думая об этих, недобитых, Демидович начинал закипать от злости: недосмотрели, не разгадали в свое время. А уж старались! Но никакой работы, наверно, не бывает без брака, особенно в такой работе, как классовая борьба; а что было бы, не будь этой борьбы, чтобы никого не репрессировали, не ссылали? И все те явные и тайные враги дожили до этой поры? Страшно подумать даже, что тогда было бы! Порезали бы в первую же ночь оккупации все руководство, партийный актив, всех, кто помогал органам. Нет, таки, правильно их давили все двадцать лет.
А может, и не совсем правильно?.. Может быть, пусть бы жили себе мужики, не трогали б их — не имели бы зла и они. Земли было достаточно, все, кто хотел, после революции землю получили и ковырялись бы на ней, как могли и умели. Известно, что крестьянину — лишь бы какой ни на есть, но обязательно чтобы собственный клочок, и он не поднимет от него носа, будет копошиться от темна до темна…
Но можно ли было это позволить? В свете новых устремлений и новых решений? Согласно учению марксизма-ленинизма, которое так бурно овладело массами, это было бы неправильно. А что касается низового, районного руководства, так для него как раз главным и было определить, что правильно, а что неправильно. Именно согласно науке марксизма-ленинизма. Счастье страны и партии, что во главе ее стал вождь Сталин, который, возможно, единственный мог это определить и осуществить практическое выполнение марксистских положений. Все то, что делалось накануне войны, как это всенародно признано, было единственно возможным и правильным. Так в чем же здесь можно сомневаться?