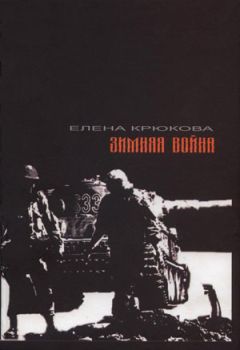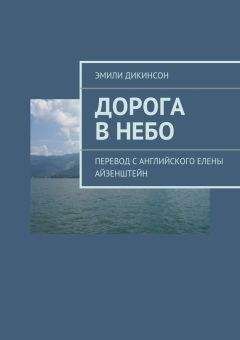— События делает человек!
— О, да вы голый материалист, как я погляжу, Коромысло. Или натурфилософ. А я всего-навсего православный. Меня крестили, когда мне стукнуло два месяца. Все эти два месяца я, по словам матери, сильно и беспрерывно орал, вопил, не смыкая рта. Домашние устали, взмолились Богу. Старушка бабушка посоветовала меня окрестить скорей. Понесли в собор. Когда священник окунал меня в купель, он сказал моей матери: «Так блажит — будет генералом». Батюшка всунул мне в рот чайную ложку кагора и кусок просфоры. Крестик — вот, у меня на груди. — Ингвар вытащил из-под кителя крестик, повертел им перед носом у Коромысло. — Я верующий, в отличие от вас. И я верю…
Он захрипел, закашлялся, кашлял долго и надсадно. Откашляв мокроту, промокнул нос и рот батистовым платком, отдышался и промолвил:
— …верю, что и Война неслучайна, и мы в ней — не просто так. Иначе все это не имело бы смысла. Смыслы, Коромысло, есть в бессмысленных, с виду, вещах. Бог знает, что делает.
— И то, что мы убили Царя, — в этом тоже, по-вашему, глубокий смысл?!
Самолетный гул за окном становился громче и безысходней. Стекла в оконных рамах сотрясались.
— И то, что мы убивали и продолжаем убивать свой народ, — в этом тоже бездна смысла?! И то, что мы с вами давно перепутали, кто друг, кто враг, и ни вы, ни я толком не знаете, против кого…
Генерал стоял лицом к окну. Его китель, как шкура рассерженной росомахи, встопорщился на плечах. Кулаки сжались. Не оборачиваясь, он произнес:
— Я знаю. Я всегда отличал Врага. Но я понял, что именно я должен приблизить последний бой и обозначить конец. Лех должен был мне помочь. Этот солдат хорошо чувствует нюхом, где конец, где начало. Он полон жизни. Он чист и смел. Он не гнушается грязи, видит в ней алмазы. Он умеет хорошо драться и великодушно прощать. Он сам алмаз. Я молю Бога, чтобы он довершил начатое. Если его убьют — прервется нить, связывающая нас с небом. А земля без неба, Коромысло…
Он так и не обернулся, глядел в окно, заросшее ледяными узорами — хвощами, лилиями, морозными водорослями. Люк за креслом молча положил недоеденный бутерброд на рюмку сверху — так кладут покойнику на рюмку водки ломоть ржаного хлеба.
— …земля без неба — это все равно что мужик без …
Узкие глаза Коромысло над скуластыми, угластыми щеками взорвались белесым фугасным светом, поджатые конской подковой губы дрогнули.
— Я не убью вашего любимца.
— И на том спасибо.
— Вы не предлагаете мне сыграть с вами в карты на Армагеддон?
— Если Армагеддон весь сгорит в огне битвы, идущей в нем сейчас, то не вы станете человеком, который завладеет им и отстроит его заново.
— Уж не вы ли, Ингвар, им будете?
— Об этом спросите золотого Будду в ваших горах. А Христа не спрашивайте. Вы восточный человек. Вам негоже Его тревожить зазря.
— Я отдам вам жизнь Леха. За Армагеддон.
Генерал медленно, с натугой поворачивая занемевшую обритую шею, обернулся. Вместо лица у него сияла, застывая в свете морозных узоров, спокойная и устрашающая посмертная маска.
— Хорошо. Берите Армагеддон. Оставляйте Леха в живых. Он сделает последний шаг. Он увидится в Париже с Анастасией. Он вернет ей русскую корону. Она станет царицей России, и Армагеддон восстанет из пепла, как Феникс… как он уже не раз восставал. Если я буду жив тогда, я помогу найти ей и вас, и Авессалома, и тогда-то она уже не пощадит вас.
Коромысло, не торопясь, вынул из кобуры вальтер.
— А если я не пощажу вас сию минуту?
Ингвар качнулся к окну. По его губам скользнула морозная, надменная усмешка.
— Стреляйте!
Люк, ринувшись вперед из-за кресла, выхватил из-за пазухи тяжелый кольт.
Грозный самолетный гул рвал небо, кромсал слух, разрезал душу и жизнь надвое — до битвы и после битвы.
Роскошный раут гудел и колыхался огнями, веерами, гибко склоненными женскими шеями, обкрученными нитками отборного жемчуга в три ряда. Мелкие алмазики сияли в высоких прическах дам. Мужчины выглядели жуками-плавунцами среди цветущих озерных лилий. Никто не знал цели и назначенья раута; ходили слухи, что на нем должны появиться представители европейских Царствующих домов. Приглашенные звезды театра и синематографа блистали, дарили многозубые покровительственные улыбки, брали с подносиков у согнутых в сутулых почтительных поклонах слуг бокалы с топазовым, пенящимся шампанским, поднимали их высоко: «Ваше здоровье!.. И ваше!.. И ваше!..» Звезды желали всем здоровья, а глаза их сверкали зло, метались, выискивая в толпе, шумно колышащейся взад-вперед по белоколонному залу Депардье, одному из лучших аристократических старых залов Парижа, соперников и соперниц. Жаль, прошли времена Цезаря Борджа, и нельзя было на рауты и приемы захватывать с собой кинжалы или склянки с ядом. О, почему нельзя?.. Это ваше право. Кинжал под лацканом пиджака… пузырек с синильной кислотой, крошка цианистого кали — за корсажем… Людская злоба безгранична, а наружу выплескивается в людских улыбках, в сияньи белых зубов, радостных глаз, в пожатьях украшенных тяжелыми перстнями рук.
Мурлыкал, мяукал в углу, за беседующими оживленно парами, белый рояль, как огромный белый кит, плывущий в пахнущей тысячью терпких духов толпе. Рояль — северная льдина; такие плыли в Северном Ледовитом Океане, когда… О, когда. Это неважно. Зачем теперь об этом. О, какая на вас изумительная брошка, мадам!.. О, спасибо, мадам. Эта брошь — наследство моей покойной бабушки, герцогини де Шеврез. Глядите, сколько здесь гранатов, и алых, и черных, и ярко-зеленых, и розовых. Ах, розовые гранаты. Я видала такие… в Сибири. Мадам бывала в Сибири?.. в этой ужасной, укрытой снегами и льдами стране?!.. Там же везде шастают белые медведи… как они вас не загрызли, деточка!.. Моряки на корабле, на котором я плыла, убили медведицу. А медвежонок остался жить. Он поднял морду к звездам и завыл. О, какой кошмарный сон вы рассказываете, мадам. Это… правда?.. О, конечно, нет. Всего лишь пересказ одного нашумевшего романа. Я на ночь обожаю читать. Мой муж привозит мне в замок из своих заграничных поездок множество книг, и я глотаю их одну за другой… как мандарины. В постели. Знаете, очень люблю читать в постели… и кофе пить в постели… со сливками… из молочника… прямо из дудочки…
Как он сюда попал? Он смутно помнил. Он тогда напился в кафэ, в том кабачке с певичкой и слепым пианистом. У него в жгут закрутились мысли, а явь предстала перед ним большим котлом на солдатской кухне, куда сваливают всю дрянь, чтобы сварить отменный суп и накормить всю роту. Кто его подобрал на улице, мертвецки пьяного, под монмартрским каменным старым забором? Он не помнил. Не знал. Он отлеживался на белоснежных крахмальных простынях в чужом доме, где нежно бормотали над ним по-французски женскими соловьиными голосками. Его поили с ложечки, кормили жюльеном с грибами и лионскими кенелями. Однажды в дом пришел человек. Он присел у его постели и долго глядел на него. Ничего не сказал ему. Шептался с француженочками, молодой и пожилой — хозяйками дома. Когда он поднялся с кровати, старенькая мадам сунула ему в руку записку с адресом и числом. Записка была написана по-русски. Он не дрогнул ни единым шрамом. Спрятал записку в карман рубахи. О, месье так порезали лицо!.. Месье такой храбрый… на месье напали разбойники?.. Месье просто-напросто воевал на Зимней Войне. Слышали про такую? Француженочки прижали уши. Кормили его пирогом с абрикосами. Восхищенно взирали на него, когда он ел. Молоденькая осмелилась и погладила его один раз, на прощанье, перед сном, по шрамам, по искромсанной щеке. Он схватил ее ручку в свой кулак, поднес к губам. У месье есть девушка?.. Хотите, я буду вашей девушкой?.. У месье есть девушка в России. Она красива, как Царская дочь. О… как жаль. Miserable.
Он наизусть выучил число, день, время и адрес. Когда он спросил, где в Париже найти особняк Депардье, его хозяки только потрясенно и безмолвно всплеснули руками.
Он здесь. Он на самом блестящем приеме Парижа, а то и всего светского мира. Он, простой солдат Зимней Войны. Вон они как живут, оказывается, аристократы. Какие знакомые лица. Он видел их в синема. Вон, вон с зачесанными гладко на затылок черными волосами, с длинными египетскими глазами, густо подкрашенными сурьмою к бровям, с сочно намалеванным пухлогубым ртом, гордо ступая по навощенному до ослепленья паркету, движется, несет себя знаменитая актриса София Лоретти, итальянка. На ней длинное платье, оно бьет ее по щиколоткам жестким, как блестящая жесть, алым шелком. Красное платье! Кровавое платье. Надеть такое, когда люди умирают на Войне. Цвет крови… цвет встающего ТАМ, из-за снегов, из-за розовых Хамар-Дабанских зубцов, холодного Солнца. Как она играла многодетную мать в том жутком фильме, где голодные дети приползают к ней, и она, лежащая на печи в крестьянском доме, выпрастывает из сорочки пустую грудь и дает им, пытается, плача, всунуть сосок в голодные, кусачие детские зубы, в плачущие рты! Какая она красивая… богатая. А играла беднячку. А он бедняк. Солдат. А должен сыграть богатого. Безмолвная записка не разъяснила, зачем он должен слоняться в душных облаках дамских арабских духов на этом званом рауте в Париже. Иди себе, смотри. Запоминай. Сожмись внутри пружиной. Готовься каждый миг к нападенью. Знай, что Война еще не закончена. Помни о…