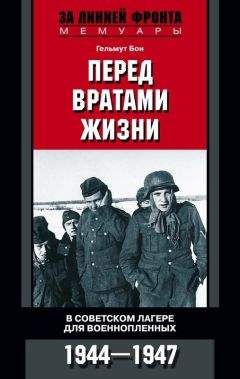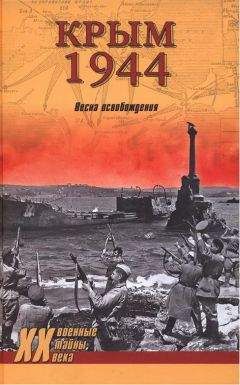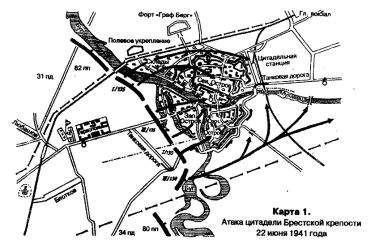Ознакомительная версия.
— Да, такой гарантии нет! — говорит Шмитц. — Даже если лейтенант Михайлов предложит наши кандидатуры, в Москве всех претендентов проверят еще раз. Они не допустят, чтобы какой-то лейтенант Михайлов навязывал им свою волю.
Таким образом, и у Центрального актива остается одна-единственная стоящая возможность — это надежда на отправку домой. Дело в том, что в принципе все уже сыты по горло своей антифашистской работой. Одежду, которую нам обещали еще в январе, мы до сих пор так и не получили. Ежемесячные сто рублей всегда выплачиваются с большим опозданием. Что касается нашего здоровья, то с каждым годом оно становится все хуже и хуже. Каждый из нас провел в плену уже не менее трех с половиной лет. Мы лояльно исполняли свои обязанности. Тем временем в Германий бывшие фашисты заняли руководящие посты. А мы, антифашисты, все еще продолжаем сидеть за колючей проволокой!
И вот осенью прошел слух, что Центральный актив должны вот-вот распустить. Некоторых из нас направят в школу в Москву. Некоторые продолжат работать пропагандистами и будут выступать со своими рефератами в разных лагерях. И в оздоровительном 185-м лагере, и в 48-м генеральском лагере, где, между прочим, одиозный генерал Зейдлиц вынужден покорно ждать, чем все закончится.
Поедет ли кто-нибудь из нас домой?
Уже несколько недель полным ходом идет лихорадочная подготовка к отправке в Германию очередного эшелона с больными и комиссованными. Наступает день, когда и Центральный актив должен предстать перед медицинской комиссией во главе с майором медицинской службы, которому подчиняются врачи всех лагерей в Иванове.
Он оставляет себе три наши медицинские карты.
Кристоф Либетраут видел это собственными глазами. Это же подтвердил ему и один из санитаров, для которого он однажды написал картину.
Кто же эти трое счастливчиков?
— Послушай! — тихо говорит мне Либетраут, чтобы никто не услышал. — Эгон Крамер, ты и я. Мы признаны самыми слабыми по состоянию здоровья. Это наши медицинские карты были изъяты. Мы едем домой!
Конечно, от волнения у меня застревает комок в горле. Но после стольких лет разочарований я боюсь в это поверить и поэтому говорю:
— Ты знаешь, уже столько раз казалось, что все окончательно решено, а потом все оставалось по-старому!
И Эгон Крамер, который обычно был против доверительных разговоров, не может удержаться, чтобы язвительно не заметить:
— А кто же тогда будет спать в наших кроватях, если мы уедем домой?
Дело в том, что наши кровати стоят рядом, и мы часто читаем одни и те же книги.
Но я воздерживаюсь от комментариев. Потом появляется Конрад, до которого тоже дошли эти слухи, подрывающие устои Центрального актива.
— Закройте-ка дверь! — командует Конрад.
Мы все собираемся в одной комнате, а Конрад заявляет:
— Чтобы некоторые из вас успокоились, довожу до вашего сведения, что изъятые после медкомиссии медицинские карты не имеют ничего общего с отправкой на родину. Мы специально узнавали.
Хорошо, что я не успел еще обрадоваться!
Но потом через несколько дней меня неожиданно вызывают в управление. Никто не любит являться в управление по вызову начальства.
Грегор, как переводчик, должен, так или иначе, идти со мной. И Конрад тоже идет с нами.
Оказывается, что меня вызвали к капитану Белорову только затем, чтобы как представителю Центрального актива поехать вместе с каким-то русским майором на место захоронения военнопленных и обсудить с ним, как можно по-новому оформить эти могилы.
Пользуясь случаем, Конрад завел разговор и о судьбе Центрального актива. Лейтенант Михайлов находился в отпуске, и для Центрального актива наступили неспокойные времена. Белоров сказал:
— Некоторых из вас распределят по разным лагерям. Там они должны получить хорошие места в администрации лагеря. Некоторые попадут в школу в Москву.
Возможно, именно потому, что я случайно присутствовал при разговоре, Конрад спросил:
— А что будет с Боном?
И тогда Белоров посмотрел на меня так, как в первые недели моего плена на меня уже смотрел один человек, который мог бы тогда послать меня домой. Белоров совершенно спокойно, как будто он говорил о чем-то несущественном, заметил:
— Бон поедет на родину.
В его устах это прозвучало так, словно он говорил о коробке спичек!
Я понял все очень хорошо.
И Грегор каким-то уставшим голосом тихо сказал мне:
— Видимо, ты уже сам все понял!
— Надеюсь, — ответил я.
Но на улице для верности я спросил еще раз:
— Значит, я должен поехать домой? Ну, прекрасно!
Я уточнил у Конрада один момент:
— Должно ли это сохраняться в тайне вплоть до моего отъезда, или я могу открыто говорить об этом?
— Почему бы и нет! — ответил Конрад с таким видом, как будто в Советском Союзе, который отвергает любую тайную дипломатию, можно было спокойно говорить обо всем.
Три дня спустя после того, как Белоров сказал, что я поеду домой, меня перевели в другой городской лагерь.
Снова наступила зима. Шел снег, и был ненастный октябрьский день, когда я вместе с Конрадом и Вильгельмом Хойшеле был переведен в 8-й лагерь. Несколько недель тому назад Мартин уехал из этого лагеря вместе с рабочей бригадой на одну из шахт в Донецком угольном бассейне.
«Видимо, я так и не уеду домой», — подумал я. Однако во мне не было страха. Как часто я напрасно лелеял надежду. Поэтому теперь уже не стоило принимать все всерьез.
На второй день моего пребывания в 8-м лагере мне и еще одному камраду из нашей группы пришлось выйти на работу на овощную базу. Там мы увидели огромную бочку, врытую в землю. Она имела три метра в глубину, а ее диаметр составлял пять метров. Для защиты от дождя и снега над ней был сооружен специальный навес.
Мы должны были шинковать белокочанную капусту.
Точнее говоря, капусту резала специальная электрическая мясорубка, а нам оставалось лишь подавать в нее кочаны капусты.
Это была довольно грязная работа.
Откровенно говоря, эти увядшие кочаны капусты, которые подвозились на небольшой деревянной повозке, надо было бы сначала помыть. У нас даже имелась бочка с водой. Но капуста была замерзшая, и после опускания в бочку с водой она не становилась чище. Тогда мы ограничились только тем, что вырезали кочерыжки и обрывали увядшие листья.
— Надеюсь, что нам уже не придется ее есть! — говорили мы, сбрасывая в бочку холодную как лед и влажную капустную массу. Хорошо еще, что нам выдали резиновые перчатки, иначе мы отморозили бы себе руки.
— Как знать, — говорю я своему напарнику, — возможно, нам все же придется отведать этой капустки!
Тот не стал мне возражать.
Сегодня очень неприятная, сырая погода. Наш стол, с которого мы берем капусту и бросаем в мясорубку, стоит под открытым небом. Идет снег. Вниз по дороге, которая ведет от нашего лагеря мимо жалких, покосившихся избушек к нашему рабочему месту, бредут румыны, которые должны помогать нам.
И румын тоже все еще никак не отпустят домой. Уже три года они ждут отправки на родину. Уже три года у них есть для этого все основания. Уже три года Румыния является союзником Советского Союза. Но они все еще томятся в плену.
Когда вечером мы возвращаемся в лагерь, где за мной все еще сохраняется привилегированное спальное место, неожиданно выясняется, что тем из нас, которым приказано ехать в школу в Москву, нужно быстро приготовиться к отъезду.
И мой напарник, с которым я целый день шинковал капусту, тоже едет вместе со всеми.
Ему совсем не хочется этого. Но разве он может сказать «нет»?
Он дает мне письмо, которое я должен отправить в Германии по указанному адресу.
А что же теперь остается делать мне? Не сидеть же мне сложа руки и ждать у моря погоды!
Будет настоящим идиотизмом, если я не поеду домой только потому, что какой-нибудь дежурный в караульной будке забудет или поленится сообщить в наш лагерь, что военнопленный Бон включен в список отбывающих на родину.
Уезжающие в Москву уже помылись в бане и получили на складе новое обмундирование.
Немецкий врач сказал мне, что в списке военнопленных 8-го лагеря, отправляемых на родину, моя фамилия не значится.
Я не расстроился по этому поводу, однако решил, что обязан сделать все, что в моих силах, чтобы на этот раз обязательно уехать домой.
Я собираю несколько книг, которые надо вернуть в центральную библиотеку, находящуюся в 13-м лагере. Уже восемь часов вечера. Возможно, уже завтра у меня отберут пропуск, но сегодня меня беспрепятственно выпускают из ворот.
Я еще раз пересекаю заснеженное поле, прохожу по мосту, с которого тем временем бедняки из близлежащих жалких домишек растащили последние доски для обогрева своих жилищ.
Ознакомительная версия.