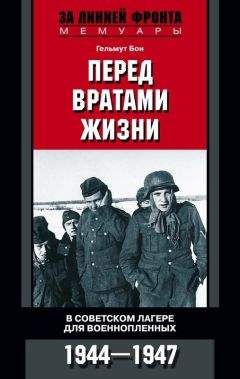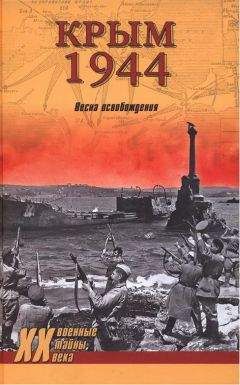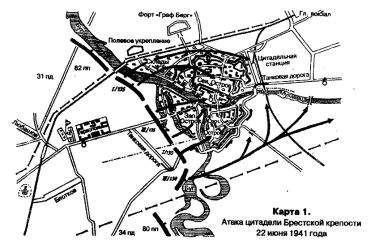Ознакомительная версия.
Еще никогда я не ощущал это так сильно, как сейчас, — после стольких лет, проведенных за колючей проволокой.
Я мог бы все записать. Но в Советском Союзе неразумно делать записи личного характера. Да и что такое бумага? Нечто мертвое. Зато Мартин был для меня словно хорошая книга, в которую хотелось дописать еще несколько своих страниц.
Мы постоянно возвращались к тому, как можно было бы сделать все в нашей жизни правильным.
Я сказал:
— Для нас, маленьких колесиков и незначительных фигур, так сложно творить добро. Вот распознать добро совсем не трудно.
На нашем земном шаре могли бы счастливо жить, одеваться, питаться и радоваться жизни двенадцать миллиардов людей. Только представь себе, двенадцать миллиардов людей!
На данный момент на Земле проживает только два миллиарда! Поэтому не может быть большой проблемой нахождение блага в деле политики и экономики.
Но весь вопрос в том, чтобы верх взяла та сила, которая этого заслуживает и которая уже обладает достаточной мощью!
Когда я в один из дождливых вечеров 1946 года после окончания смены на кухне стоял с Мартином в музыкальном павильоне и мы с ним по-мальчишески задорно обсуждали мировые проблемы, я сказал ему тогда:
— Послушай, сегодня я читал статью Ильи Эренбурга. Он так пишет о нас и о Германии: «Это страна, на полях которой танки пасутся так же вольно, как в других странах овцы, где женщины рожают не детей, а командиров танков!»
Конечно, видный советский журналист и ненавистник немцев Илья Эренбург написал так для того, чтобы очернить нас. Но для нас, пленных, эта песнь о германском величии и танках прозвучала как сигнал трубы.
— Что ты думаешь об этом, Мартин?! — спросил я.
И он нашел тогда это сравнение великолепным: танки пасутся как где-то овцы. Рожать не детей, а командиров танков!
Это была Все та же старая песня. Если немцев рассматривать как фашистов, если к ним обращаться как к фашистам, то они и сами будут ощущать себя фашистами.
Обожествление силы! Быть командиром танка! Сегодня это предел мечтаний — точно так же, как в Средневековье все мальчишки мечтали стать рыцарем или рейтаром.
Но после того, как в наших ушах отзвучали слова о народе командиров танков, мы вспомнили о том, что мы никому не должны позволять приписывать нам эту роль, какой бы героически-красивой она ни была. Ведь это неправда, что в немецких колыбельках лежат маленькие командиры танков!
Когда я в следующий раз снова договорился с Мартином о встрече, мы говорим о наших личных желаниях и надеждах. Вначале мы похожи на двух капитанов, которые случайно встречаются в открытом море. Они не начинают праздно беседовать, пока не разберутся со своим местоположением по градусам, минутам и секундам долготы и широты.
После таких встреч, которые обычно заканчиваются часам к десяти вечера, Мартин отводит меня в караульную будку лагеря. Там туберкулезного вида старик, который дежурит здесь, выискивает из кучи бумаг мой пропуск. Мартин распорядился, чтобы из лагерной столовой ему ежедневно приносили миску супа. Потом старик записывает в мой пропуск, когда я ухожу из 8-го лагеря. Такова инструкция. На прощание я говорю Мартину:
— Итак, не вешай носа, старина!
Потом я иду вдоль забора из колючей проволоки, возведенного вокруг этого маленького лагеря, и выхожу через ворота фабрики, где стоит второй вахтер. Чаще всего там дежурит пожилая женщина, которая даже летом закутана в теплый платок. Я лишь предъявляю ей пропуск и всякий раз говорю по-русски:
— До свидания!
Мне нравятся эти простые слова прощания, которые я говорю этим маленьким людям, добросовестно исполняющим свои нехитрые обязанности, порученные им их маленьким или большим начальником. Это своего рода поклон всем людям доброй воли, которые извлекают максимум из подвернувшейся возможности.
— До свидания! — отвечает мне старушка в платке.
Слева виднеется бетонная коробка центрального вокзала. Он ярко освещен прожекторами. В вечерних сумерках светятся красные и зеленые огни светофоров, которые в Германии всегда настраивали меня на сентиментальный лад. А тем более здесь, на чужбине. Уже довольно поздно.
Я прохожу несколько сот метров вдоль железнодорожных путей. Навстречу мне изредка попадаются темные фигуры случайных прохожих. Никто не знает, русский я или нет. Здесь очень одиноко, и никто из спешащих по своим делам людей ничего не знает обо мне, как и я о них.
Одинокие темные фигуры.
Но надо доверять людям, чтобы без страха шагать по миру.
На подоконниках ярко освещенных окон без занавесок стоят фикусы. На стене старинная картина. Керосиновая лампа, мягко освещающая комнату. Женщина укладывает младенца в кроватку.
Через пятнадцать минут я уже вижу недостроенное здание педагогического института. Там я живу, в 13-м лагере для военнопленных.
Я прохожу через будку проходной. Дежурный вахтер крепко спит.
— Спокойной ночи! — говорю я, выходя из проходной.
Слева находится готовое крыло педагогического института. В теплые летние вечера на балконах этого похожего на большую казарму здания собираются юные студентки.
Я прохожу еще пятьдесят метров по нашему двору и поднимаюсь вверх по лестнице.
На побеленной известью стене художник нарисовал огромную эмблему нашей стенгазеты: две руки, которые держат молот, книгу и сноп колосьев!
В коридоре мне встречаются пленные из верхней спальни. Они говорят мне: «Добрый вечер!» или «Сервус! Привет!», как принято у них на родине, в Австрии.
И вот я вхожу в дверь, на которой красуется большая табличка: «Центральный антифашистский актив 324-го лагеря для военнопленных».
Эгон Крамер чаще всего еще не спит. Мы перебрасываемся несколькими словами. Эгон Крамер и Юпп Шмитц все еще усердно занимаются. Или они еще не вернулись из дальних лагерей, где выступали со своими рефератами. Только наш художник, Кристоф Либетраут, всегда на месте.
— Моя порция супа еще внизу? — спрашиваю я его.
Тогда я спускаюсь вниз, стучу в окно раздачи на кухне:
— Одну порцию ужина для Центрального актива.
На часах уже десять, а то и двенадцать часов ночи. Я сижу один в холодной столовой, хлебаю вечерний суп и думаю: как странно, что у человека может быть тяжело на сердце, когда так много говоришь о том, что тебя волнует до глубины души. Другие рассказывают, что им приносит облегчение исповедь. Когда я говорю о том, что меня волнует, то у меня возникает чувство несправедливости. Хорошие мысли, которые выражены словами, больше не ждут, что их претворят в дела. Другими словами, они ожидают безусловного исполнения примерно так, как полицейское предписание требует соблюдения закона. Выраженные словами мысли теряют привлекательность новизны. Следовало бы больше молчать!
Потом я направляюсь в помещение, где одновременно спят не более двенадцати человек. Я разбираю кровать и очень медленно раздеваюсь.
Снова закончился еще один день плена!
Нет, не остается делать ничего другого, как не обращать внимания на то, как проходят день за днем. Час за часом, минута за минутой, часто секунда за секундой. Время непрерывным потоком течет сквозь тебя. И нужно радоваться, если ты не растворишься в нем.
Мы, члены Центрального актива, находимся в своеобразном положении.
Мы уже как бы и не пленные. Не военнопленные в общепринятом смысле этого слова.
Мы все больше и больше приближаемся к той свободе, которой пользуются граждане Советского Союза.
У нас есть постоянная работа, за которую каждый из нас получает сто рублей в месяц. Это небольшие деньги на карманные расходы, хотя русский рабочий тоже зарабатывает не больше пятисот рублей.
Питание и проживание мы получаем в лагере.
В лагере проводятся концерты, показывают кино и каждые десять дней водят в баню.
Благодаря нашей работе нам приходится переходить из одного лагеря в другой. Мы свободно ходим по улицам крупного города Иваново. Там есть широкая Советская улица. Это главная улица города с трамваем, двумя раздельными асфальтированными проезжими частями, с тенистой аллеей и широкими тротуарами.
Большой город. Центр советской текстильной промышленности. Как и в Америке, выросшие, словно из-под земли, белые дворцы фабрик с огромными витражами.
Иваново — это город женщин, а также город с большим зданием театра, возведенным на холме, как Акрополь в Греции.
А на оживленных улицах города пестрая публика. Поскольку в обычной жизни свобода довольно ограниченна, каждый позволяет себе делать с одеждой что ему хочется или что он может.
По улице бредет босая старушка. Даже летом она не снимает теплую телогрейку.
Рядом с ней стоит девушка в нейлоновых чулках и туфлях на высоком тонком каблуке.
Ознакомительная версия.