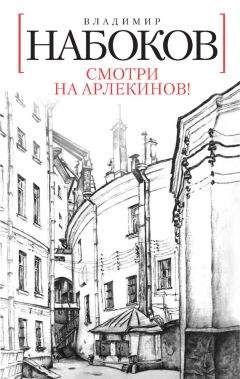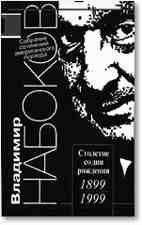Я отверг ее так решительно, что он выронил серебрянный коробок с пилюлями, и множество ни в чем не повинных леденчиков усеяло стол вокруг его локтя. Он их смахнул на ковер сердитым выпроваживающим жестом.
Чем же я в таком случае намереваюсь заняться?
Я отвечал, что хотел бы по-прежнему предаваться моим литературным мечтаниям и кошмарам. Большую часть года мы станем жить в Париже. Париж становился средоточием культуры и нищеты эмиграции.
И сколько я думаю зарабатывать?
Что ж, как известно Н.Н., разного рода валюты подрастеряли свою самоценность в водовороте инфляции, однако Борис Морозов, знаменитый писатель, слава которого опередила его изгнание, привел мне несколько "примеров из жизни" при нашей недавней встрече в Канницце, куда он приехал, чтобы читать о Баратынском в местном "литературном кружке". В его случае, четверостишие окупало bifstek pommes, а пара статей в "Новостях эмиграции" снабжала месячной платой за дешевую chambre garnie. Ну и еще чтения, самое малое дважды в год собиравшие немалое количество публики, - каждое могло принести сумму, равноценную, скажем, ста долларам.
Обдумав все это, мой благодетель сказал, что покамест он жив, я буду получать чек на половину названной суммы первого числа каждого месяца, и что в своем завещании он мне откажет кое-какие деньги. Он сказал, какие. Ничтожность их ошеломила меня. То было предвестие огорчительных авансов, которые мне предлагали издатели - после долгих, многообещающих пауз, заполняемых стуком карандаша.
Мы наняли квартирку в две комнаты в 16-м arrondissement'e Парижа, на рю Депрео, 23. Соединявший комнаты коридор выходил передним концом к ванной и кухоньке. Предпочитая (из принципа и по склонности) спать в одиночестве, я уступил Ирис двойную кровать, а сам ночевал на кушетке в гостиной. Стряпать и прибирать приходила консьержкина дочка. Кулинарные способности у нее были скудные, так что мы часто нарушали однообразие постных супов и вареного мяса, обедая в русском "ресторанчике". В этой квартирке нам предстояло прожить семь лет.
Благодаря предусмотрительности моего хранителя и благотворителя (185O?-1927), старомодного космополита со множеством нужных связей, я ко времени женитьбы обратился в подданного уютной иностранной державы и потому был избавлен от унижения "нансеновским паспортом" (вид на бродяжничество, в сущности говоря), как и от пошлой одержимости "документами", вызывавшей столько злого веселья в большевистских правителях, ухвативших определенное сходство между советской властью и бессовестной волокитой, как равно и близость гражданского состояния стреноженных экспатриантов политической обездвиженности красных крепостных. Я мог вывозить жену на любой из курортов мира без того, чтобы неделями дожидаться визы и получить, возможно, отказ в визе на возвращение в случайную страну нашего обитания, в данном случае - Францию, - по причине неких изъянов в наших бесценных и презренных бумагах. Ныне (в 197О-м), когда моему британскому паспорту унаследовал не менее мощный американский, я все еще сохраняю тот 22-го года снимок загадочного молодого человека, каким я был тогда, - с загадочной улыбкой в глазах, при полосатом галстуке и с вьющимися волосами. Помню весенние поездки на Мальту и в Андалузию, однако каждое лето, около 1 июля, мы приезжали в Карнаво и проводили там месяц, а то и два. Попугай помер в 25-м, мальчишка-лакей исчез в 27-м. Ивор дважды навещал нас в Париже, и полагаю, она с ним встречалась также в Лондоне, куда наезжала по крайности раз в год, чтобы провести несколько дней с "друзьями", мне не знакомыми, но по-видимости безвредными хотя бы до некоторой степени.
Мне полагалось быть намного счастливей. Я и планировал быть намного счастливей. Здоровье мое продолжало снашиваться и сквозь его обтрепанные прорехи проступали зловещие очертания. Вера в мои труды стояла неколебимо, но несмотря на трогательные намерения Ирис разделить их со мной, она так и осталась от них в стороне, и чем большего совершенства я достигал, тем более чуждыми становились они для нее. Она брала отрывочные уроки русского, постоянно прерывая их на долгие сроки, и в конце концов выработала устойчивое и вялое отвращение к этому языку. Я скоро приметил, что она оставила попытки казаться внимательной и понимающей, когда в ее присутствии разговаривали по-русски и только по-русски (продержавшись из вежливого снисхождения к ее недостатку минуту-другую на примитивном французском).
В лучшем случае это злило, в худшем - тяжко сжимало сердце, впрочем, не сказываясь на здоровьи, - ему грозило иное.
Ревность, гигант в маске, ни разу не встреченный мной прежде, посреди фривольных затей моей ранней молодости, теперь, сложив на груди руки, вставал предо мной на каждом углу. Кое-что из сексуальных прихотей Ирис, любовная изворотливость, лакомость ласк, легкая точность, с какой она приноравливала свой гибкий остов к любой из построек страсти, - все предполагало обилие опыта. Прежде чем заподозрить настоящее, я почитал обязательным исчерпать подозрения по части прошедшего. Во время допросов, которым я подвергал ее в мои худшие ночи, она отметала ранние романы как вовсе незначащие, не понимая, что такая недоговоренность больше оставляет моему воображению, нежели чудовищно раздутая правда.
Трое любовников, бывших у ней в юности (это число и вымучивал у нее с лютостью пушкинского безумного игрока и с еще меньшей удачливостью), остались безымянными, и значит, призрачными, лишенными личных черт, и значит, тождественными. Они исполнили их краткие па в тени ее одиночной партии, фигуранты кордебалета, годные для приторной гимнастики, но не танца: было ясно, что никто из них не станет премьером труппы. Напротив, она, балерина, была словно темный алмаз, все грани ее таланта готовились вспыхнуть, но под гнетом окружающей гили она пока ограничивалась в жестах и поступи выражениями холодного кокетства, увертливого флирта, ожидая, когда из-за кулис выскочит в громадном прыжке (вслед за приличной прелюдией) мраморнобедрый атлет в блестящем трико. Мы полагали, что я избран на эту роль, однако мы ошибались.
Лишь проецируя эти стилизованные образы на экран моего сознания, мог я умерить муку чувственной ревности, обращенной на призраков. И однако ж, нередко я уступал ей по собственной воле. Французское окно моего кабинета на вилле "Ирис" выходило на тот же крытый красной черепицей балкон, что и окно ее спальни; приоткрыв, створку удавалось установить под таким углом, что возникало два разных вида, вливавшихся один в другой. Стекло наклонно ловило за монастырскими сводами, ведшими от комнаты к комнате, кусочки ее постели и тела волосы, плечи, - каких иначе я не сумел бы увидеть от старинной конторки, за которой писал; но в нем помещалась еще, казалось, только вытяни руку, зеленая реальность сада и шествие кипарисов вдоль его боковой стены. Так, раскинувшись наполовину в постели, наполовину в бледнеющем небе, она писала письмо, притиснув его к моей шахматной доске, к той, что поплоше. Я знал, что если спрошу, она ответит: "А, старой школьной подружке" или "Старенькой мисс Купаловой",и знал, что так или иначе письмо доберется до почтовой конторы без того, чтобы я повидал имя на конверте. Но я позволял ей писать, и она уютно плыла в спасательном поясе из подушек над кипарисами и оградою сада, а я неустанно исследовал - безжалостно, безрассудно - до каких неприглядных глубин достанет щупальце боли.
11.
Русские уроки большей частью сводились к тому, что она относила мое стихотворение или эссе к той или этой русской даме к мадемуазель Купаловой или к мадам Лапуковой (ни та ни другая английского толком не знала) и получала устный пересказ на своего рода домодельном воляпюке. Когда я указывал Ирис, что она зря расходует время на такую пальбу в белый свет, она измышляла еще один алхимический метод, который мог бы позволить ей прочитать все, что я написал. Я уже начал тогда (1925) мой первый роман ("Тамара"), и она лестью выманила у меня экземпляр первой главы, только что мной отпечатанной. Она оттащила его в агенство, промышлявшее переводами на французский утилитарных текстов вроде прошений и отношений, подаваемых русскими беженцами разного рода крысам в крысиных норах различных "комиссарьятов". Человек, взявшийся представить ей "дословную версию", которую она оплатила "в валюте", продержал типоскрипт два месяца и при возвращении предупредил, что моя "статья" воздвигла перед ним почти неодолимые трудности, "будучи написанной идиоматически и слогом, совершенно непривычным для рядового читателя". Так безымянный кретин из горемычной, гремучей и суматошной конторы стал моим первым критиком и переводчиком.
Я знать не знал об этой затее, пока в один прекрасный день не застукал Ирис, наклоняющей каштановые кудри над листками, почти пробитыми люто лиловыми буковками, покрывавшими их без какого бы то ни было подобья полей. В те дни я наивно противился любым переводам, частью оттого, что сам пытался переложить по-английски два или три первых моих сочинения и в итоге испытывал болезненное омерзение - и бешенную мигрень. Ирис, с кулачком у щеки и с глазами, в истомленном недоумении бегущими по строкам, подняла на меня взор - несколько отупелый, но с проблеском юмора, не покидавшего ее и в самых нелепых и томительных обстоятельствах. Я заметил дурацкий промах в первой строке, младенческое гугуканье во второй и, не затрудняясь дальнейшим чтением, все разодрал, - что не вызвало в моей милой упрямице никакого отклика, кроме безропотного вздоха.