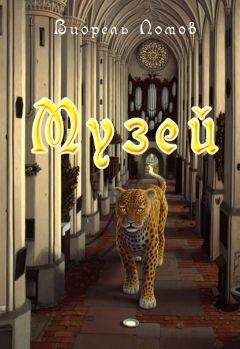— Сфо… сфотографировалась? — выдавил я из себя.
Она молча замотала головой. Я предложил ей попить чай. Мы пошли на кухню. Элоиза зашла в ванную и умылась холодной водой.
Я залил пакетики кипятком, положил ломтики лимона, сахар. Покрутили ложечками, подавили лимон, молча выпили, не замечая вкуса чая и не глядя друг другу в глаза.
Я включил телевизор. На всех каналах дикторы с выпученными от новостей глазами спешили наперебой сообщить очередные ужасы. Какими глазами и какими словами передать мне ужас души моей?
В пятницу Элоиза не встала с постели…
В пятницу Элоиза не встала с постели, лежа написала заявление на административный и попросила передать его Салтычихе.
Весь день я таскал с двумя рабочими из пятого зала в тринадцатый щиты и подиумы, которые позавчера притащил в пятый зал из двенадцатого. Двенадцатый и тринадцатый залы были смежными помещениями и сообщались проходом.
— Так у нас никогда не кончится работа, — сказал я вечером.
Рабочие согласились и пригласили меня распить с ними пива.
Перед уходом я поднялся в выставочный зал. Появились первые восторженные отзывы о фотографиях. Особо отмечали женщину у окна, освещенную солнцем, похожую на Элоизу. Перхота, сказали, в этот день в музее не появлялся.
Я не помню, как добрался домой. А утром меня растолкала Элоиза. У нее были сухие красные глаза, говорившие о бессонной ночи.
— Вставай, сегодня едем полоть картошку.
Если я ей неприятен, думал я, почему она не прогонит меня? Сказала бы: ступай куда глаза глядят — и я пошел бы туда, не зная куда. Не говорит, однако, не говорит. И, похоже, не скажет. Ей теперь страшно остаться одной.
Весь музей уже сидел в автобусе…
Весь музей уже сидел в автобусе. Каждому работнику (огородная комиссия всем распределила поровну) предстояло прополоть пять соток. На переднем сиденье расположился Верлибр. За ним супруги Салтыковы.
— Зачем Верлибру одному столько картошки? — спросил я.
— У него две семьи, — сказала Элоиза. — Ты думаешь, с пяти соток будет много картошки? Пять мешков. Мелкой, курживой, с проволочником и фитофторой.
— И зачем же она такая? — риторически спросил я.
Под обжигающим солнцем июня граждане стали дружно вскапывать сухую раскаленную землю, тюкать тяпками по толстым жилистым сорнякам. В глазах их было то темно, то ярко. Люди ворошили землю, словно готовили ее для себя.
У Элоизы был участок, вообще не годный для картошки. Глина глиной. Я яростно углубился в глину. Словно из этой глины хотел создать человека в себе. Элоиза перевязала лицо, как казачка, белым платком, и размеренными сильными движениями полола траву и окапывала картошку. Себя я почувствовал колоссом на глиняных ногах. Я отшвырнул сигарету и подошел к Элоизе.
— Тут же одна глина, — сказал я ей.
— А в жизни нашей разве что-то другое? — спросила она.
В город мы вернулись в пятом часу, на градуснике было тридцать четыре градуса. Все тело мое покалывало от укусов солнца и слепней. И ноги подкашивались, как у того самого колосса. Мы вышли неподалеку от дома Элоизы.
В глазах моих было темно. В глотке пересохло.
— Купим водки, — предложила Элоиза.
На площадке возле квартиры курил незнакомый мужчина. Второй сидел на подоконнике. Явно, они поджидали нас. У меня дрогнуло сердце.
— Шувалова? — Мужчина показал красное удостоверение. — Разрешите?
— Мы с картошки. Подождите минутку, ополоснемся, — устало сказала Элоиза.
Мужчины, поглядев на часы, прошли в комнату и уселись на диван. К ним подошел кот, и они стали по очереди гладить его, разглядывая обстановку.
— Кто такие? — спросил я в ванной Элоизу.
— Следователи. Скорее всего нашли украденное из музея в День открытых дверей. Каждый год так. Я с картошки, а они уже тут как тут.
— Может, с картошкой завязать?
Вопрос мой рассмешил Элоизу, и она истерически рассмеялась, но тут же и замолкла, вытолкнув меня из ванной. Через пять минут я сменил ее, а когда вышел, она сидела напротив следователя и смеялась вместе с ним. Второй гость с серьезным видом гладил кота.
— Вот пришли, интересуются: знаю ли я что-нибудь о фотографе? Говорят, с четверга нет его нигде — ни дома, ни в студии. Он в пятницу был в музее?
— Не был.
Следователь с помощником распрощались, отказавшись от чая.
Мы с Элоизой распили водку…
Мы с Элоизой распили водку. Я сразу же отключился и очнулся под утро оттого, что меня тряс Верлибр и кричал:
— Где Перхота? Куда вы дели Перхоту?
Элоиза сидела на кровати, скрестив под собой ноги. Голая грудь ее просилась в работу фотомастера класса Перхоты.
— Прикрылась бы хоть! — бросил ей Верлибр.
— А зачем? — парировала она. — Перхота хочет снять меня с голой грудью. Где он? Пантелеев!
В дверь без стука вошел Пантелеев. На нем были только трусы в цветочек. Начальник охраны зевал и чесался.
— Пантелеев, как тебе моя грудь?
— Круто! — рявкнул Пантелеев. — Не откажусь!
— Потому и не предлагаю. А вот он, — Элоиза ткнула пальцем в Верлибра, хочет ее прикрыть. Перхота где?
— Из эбсэнд! Настоятельно рекомендуется обождать! До девяти ноль-ноль!
— Грудь не ждет, грудь со временем превращается в груди. Найти Перхоту!
— Слшс! — Пантелеев, раздирая рот в зевке, ушел.
— Пантелеев! — вернула его Элоиза.
— Чего изволите? — спросил тот из коридора.
— Для иллюстрации доставить сюда Шенкель.
Начальник охраны зашел в комнату, взял листок бумаги, записал на нем "1. Перхота. 2. Шенкель", протянул его Элоизе: "Распишитесь!" Элоиза расписалась, и он ушел. Вернулся: "Дату еще! И расшифровку подписи".
Первой он привел Шенкель. Та была в просторной ночной рубашке. Элоиза стащила с нее через голову рубашку и усадила рядом с собой.
— Ну как, права я?
— Так точно, груди! — рявкнул Пантелеев.
— Дать ей шенкеля! Перхоту ко мне!
Быстро с Перхотой не получилось. Рассвело, а Пантелеева все не было. Верлибр стал дремать. Элоиза стояла у трюмо и рассматривала свою грудь. Мне она нравилась со всех сторон.
— Что-то нет Пантелеева, — сказал я.
— А его и не будет, — бросила Элоиза.
— Как не будет? — встрепенулся Верлибр.
— Так. Не будет — и все. Перхоты нет — значит, не будет и Пантелеева.
— Где он?
— Почем я знаю? Где-нибудь. В мастерской или на пленэре. Он свободный художник. Для него любая баба — мастерская и пленэр.
В семь утра Элоиза стала делать утреннюю гимнастику. Верлибр с интересом следил за ее грудью. Когда Элоиза стала отжиматься, Верлибр вскочил петушком и тоже попробовал отжаться, но на втором отжиме стукнулся носом об пол. Из носа у него потекла кровь.
— Нет в жизни счастья. Прав был кореш Вася. Как жаль, что сгнил, бедняга, в лагерях, — гнусаво пропел Верлибр.
И тут я проснулся.
В двенадцать ноль-ноль были…
В двенадцать ноль-ноль были: Верлибр, Салтычиха, Салтыков, Вова Сергеич, Скоробогатов, Пантелеев, Элоиза; из приглашенных: я, Шувалов, Шенкель. Федул где-то загулял. Вел заседание следователь Куксо, секретарем был его помощник Усть-Кут.
Я опоздал на несколько минут. Куксо продемонстрировал мне красное удостоверение.
— Сядьте! Вы нам тоже понадобитесь. Кстати, не помешало бы взглянуть на ваш паспорт.
Я вспомнил, что у меня его забрал Вова Сергеич, обещал вернуть еще в прошлый понедельник и не вернул.
— Первый раз слышу о каком-то паспорте, — пожал плечами Вовчик.
— Ограничимся этим, — сказал Куксо. — В повестке вопрос один: о Перхоте. Для ясности: нам стало доподлинно известно, господа, что Перхота… убит.
Следователь цепко впился взглядом сразу во всех, вдруг кто вздрогнет или крикнет: я, я убил! Зря старался, мент! Эта новость протухла еще вчера.
— Труп пока не обнаружен. В четверг, после утреннего общения со всеми вами, Перхота как в воду канул. Вышел из музея и никуда не пришел, ни домой, ни в студию, ни к одной из своих тринадцати любовниц.
— На чем основано ваше убеждение, что Перхота убит? — спросил Верлибр.
Для директора главное — уметь сформулировать вопрос и внятно произнести его.
— На тринадцати любовницах? — предположил Скоробогатов.
— Ни на чем, — ответил Куксо. — Найден кусок его разодранной рубашки в крови.
— Где? — Верлибр нахмурил брови.
— Тайна следствия. Неподалеку.
— Почему именно его? Рубашка может быть чья угодно.
— Может, но она его. У нас криминалисты деньги за так не получают.
— Как и наши специалисты, могу заверить вас.
— Сочтемся амбициями потом. — Следователю, похоже, надоели пустые препирательства. — Пусть каждый вспомнит, о чем и когда он в последний раз разговаривал с Перхотой. Во всех подробностях, пожалуйста. Во избежание повторения — матери учения.