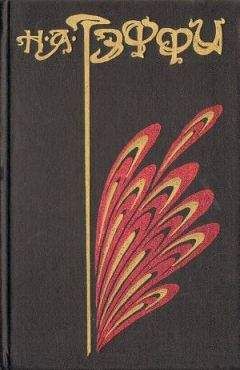Об этом печальном факте свидетельствовали все жалобные книги всех вагонов третьего класса, многочисленные протоколы и бесчисленные письма пассажиров.
Выходило, что, обращаясь вежливо с публикой первого и второго классов, кондуктора властвовали в третьем классе столь дерзновенно и жестоко, что вынести их обращение не было никакой возможности.
«А кондуктор всю дорогу от Цветкова до Культяпина оскорблял и меня, и весь мой багаж невыносимо», — жаловалась старуха-помешица.
«Билеты прощелкивает с столь вызывающим видом, коего нельзя допустить и в цензурных словах описать невозможно», — доносил другой пассажир.
«Кондуктор ваш лается, как лиловый пес», — просто и ясно излагал третий.
Все эти жалобы встревожили наконец управляющего дорогой.
— Нужно принять меры. Нужно обуздать их как-нибудь. Самое лучшее — проехать самому инкогнито в третьем классе и поймать их с поличным, — заявил он на заседании.
— Нет, ваше превосходительство, это не годится, — возразил управляющему умный человек. — Все кондуктора так изучили вашу наружность, что моментально узнают вас, как вы ни переодевайтесь, хоть в женское платье.
— Так как же быть?
— Да очень просто: послать кого-нибудь из служащих, выбрать позахудалее.
— Вот у меня в канцелярии есть одна такая крыса — Овсяткин. Такой, какой-то от природы общипанный, что посади его в первый класс, так и то видно, что он должен ехать в третьем. Уж такая у него от Бога третьеклассная наружность.
— Ну, что ж, можно его командировать. Купить ему билет и пусть проедет инкогнито по всей линии.
* * *
— Пришила новые пуговицы к пальто? — спрашивал Овсяткин у своей перепуганной жены.
— Приш-шишила, Кузьма Петрович. Как вы сказали, так в един дух и пришила.
— То-то «пришишила»! Ты должна понимать! На меня возлагается ответственнейшее поручение высочайшей важности. Я, служащий долго-культяпинской железной дороги, имеющий даровой билет второго класса, еду ин-ког-нито, как самый простой смертный, в третьем классе. Сам начальник сказал мне: «Вы поедете ин-ког-нито». Следовательно, как я должен себя держать? С достоинством. Вот как человек, имеющий даровой билет, едет по собственной железной дороге, как Гарун Аль-Рашид, в третьем классе. Понимаешь? Если не можешь понять, то хоть чувствуй.
Он надушился одеколоном «Венецианская лилия» и отправился на вокзал.
— Эт-то что-о? — спросил он кондуктора, указывая на лесенку вагона.
— Ступенька, — удивился кондуктор.
— Ступенька-а? — переспросил Овсяткин, зловеще прищуривая один глаз. — А почему же на ступеньке арбузная корка? Может быть, для того, чтобы пассажиры ломали себе ноги, а дорога потом плати? Вы этого добиваетесь? А? Добиваетесь разорения долго-культяпинской железной дороги? А?
Кондуктор совсем уж было собрался выругаться, но посмотрел на величественную осанку Овсяткина и осекся.
Овсяткин полез в вагон.
— Это еще что за фря? — спросил кондуктор у товарища.
— Может, и просто с винтом, а может, в ем личность какая-нибудь. Надо пойти взглянуть.
Овсяткин сидел на скамейке в позе распекающего генерала. Ноги вывертом, руками уперся в колени, губу выпятил.
— Та-ак-с! Хорошо-с! Очень хорошо-с! Даже чрезвычайно хорошо-с! — ядовито и надменно говорил он сам себе. — Вы думаете, я не замечаю? Я очень даже хорошо все замечаю.
Кондуктор подтолкнул товарища локтем в бок.
— Слышишь?
— Слышу.
— С чего бы это он так?
— Я ж тебе говорю, что в ем личность, не нажить бы беды. Держи ухо востро.
— Позвольте ваш билет, господин!
Овсяткин прищурился и посмотрел на кондуктора испытующе.
— Мой билет? Вам нужен мой билет? Извольте-с. Вот-с. Представляю вам билет третьего класса, специально для меня купленный. Не беспокойтесь, все в порядке. Ха-ха!
От этого смеха, короткого и сухого, как щелканье взводимого курка, оба кондуктора вздрогнули и слегка попятились.
— Вам, может быть, от окошечка дует, — вдруг весь забеспокоился один.
И не успел он закончить фразы, как другой уже потянулся закрывать.
— Не-ет-с! Окошко тут ни при чем! — зловеще торжествовал Овсяткин. — Ни при чем! «И не в шитье была тут сила». Да-с!
Кондуктора вышли на площадку.
— Слышал?
— Да, уж что тут. Дело дрянь. Я сразу заметил, что за цапля едет.
— Пронеси, ты, Господи!
— А я еще, как на грех рядом с ним мужика посадил. Личность необразованная, — сидит, воблу жует. Бе-еда!
А Овсяткин ехал в позе распекающего генерала и думал:
— Жил-жил и дожил. Служил-служил и дослужился. Сек-рет-нейшее предписание высочайшей важности! Н-да-с! Ин-ког-нито! Я им покажу! Я их подтяну! Будут знать! Попомнят! Кондуктор!
— Чего прикажете, ваше высокобла…
— Отчего там четверо сидят, а тут пустая скамейка? А? Я тебя спрашиваю, — отчего? А?
— Виноват-с, это они сами так пожелали-с. Народ, значит, семейный, так целым гнездом и едут-с!
— Гне-здо-ом? Вот я вам покажу гнездо. Будете знать!
— Ну и штучка! — шептались кондуктора, стоя на площадке. — И кто бы это такой был?
— Може, управляющий?
— Нет, какой там. У управляющего лицо величественное, в роде редьки. А этот — мочалка — не мочалка, шут его знает.
Овсяткин щурил глаза, перекидывал ногу на ногу, саркастически обнажал с левой стороны рта длинный коричневый зуб, ежеминутно подзывал кондуктора, сначала предлагая ему грозные вопросы, потом просто мычал:
— Кондуктор! Эт-то у вас что мм… Ну, можете идти.
Кондуктора с ног сбились. Лица у них стали растерянные, лбы вспотели.
— Ваше высокопревосходительство! Разрешите перейти, то есть, вашей личности в первый класс! — взмолились они. — Там как раз для вашей милости отдельное купе приготовлено.
Овсяткин усмехнулся не без приятности и разрешил.
— Ревизия моего инког-нито дала благоприятный результат, — думал он, укладываясь спать на бархатном диване отдельного купе первого класса. — Кондуктора нашей дороги — народ смышленный и безусловно благовоспитанный. Это безусловно. Воспитание они получили.
А кондуктора крестились на площадке и облегченно вздыхали.
— Кажется, пронесло!
— Я же тебе говорил, что в ем личность.
— А мужичонка, что рядом с ним сидел, бунтует. Я, — говорит, — тоже хочу в купу.
— Дать ему хорошего раза в зубы, так расхочет.
Второй кондуктор лениво почесал за ухом, подумал, и чувство долга взяло верх.
— Лень чего-то. Ну, да уж все равно — пойду дам.
Как бы вы ни были счастливы вашей квартирной обстановкой, это счастье недолговечно.
Оно только до весны.
Уже летом при воспоминании о вашей столовой, или гостиной, или кабинете, вас начинает смущать неясная, но неприятная тревога.
К осени тревога усиливается и по возвращении из летней поездки выливается в определенную, безысходно зловещую форму: надо купить новую мебель.
Это не значит, что вам непременно нужно купить всю мебель. Нет. Не всегда дело обстоит так мрачно. Иногда запросы вашей души можно утолить одной оттоманкой или креслом-качалкой.
Но и это не пустяки.
Купить оттоманку совсем не то, что купить каменный дом или доходное имение. И дом, и имение покупаются просто, способом сухим, деловым и прозаическим.
Приносят планы, объявляют цену, производят осмотр, платят деньги, совершают купчую, вводятся во владение — и вся недолга.
С оттоманкой дело не так просто.
Прежде всего, выискиваете вы подходящее объявление в газете. Вырезаете и дня три носите его в бумажнике. Потом оно пропадает.
А утром в намеченный для покупки день вы встаете пораньше, моетесь и пьете чай с особенным, деловым видом, в котором все окружающие должны чувствовать укор своей лености, и просите не лезть с пустяками к человеку, которому и без того дела по горло.
Затем идете в комнату, куда намереваетесь поставить будущую оттоманку, и начинаете соображать, поместится она между дверью и шкапом или не поместится.
— Надо смерить аршином, — советуют близкие.
Но у какого порядочного человека найдется в доме аршин? Аршин если и появляется в силу крайней необходимости, то существует, во всяком случае, недолго и гибнет, едва успев выполнить свою прямую функцию. Затем им выгоняют залезшую под диван кошку, достают закатившуюся под комод катушку, а потом ему капут. Он сам куда-то заваливается и пропадает бесследно.
Но существование его чувствуется где-то поблизости и препятствует покупке нового аршина.
— Зачем покупать? Ведь есть же где-то старый!
И тогда начинают подлежащее измерению пространство мерить шагами, руками, пальцами и просто взорами.
— Итак, мне нужна оттоманка в два шага.