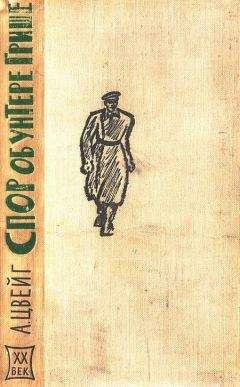– Работал?
Вот оно, самое неприятное.
– Как тебе сказать… Очень уж плохо спал сегодня.
– Не надо было вечером кофе пить. Ведь знаешь, что не надо, а пьешь.
Она поставила перед ним тарелку с куском жареного мяса, твердо, упруго блестевшего, как кусок футбольного мяча.
– Бифштекс.
Алексей Иваныч уставился на бифштекс так же тупо, как только что смотрел на войлочную туфлю.
– Чего же ты? – спросила жена.
– Гм… Бифштекс. А не найдется ли у тебя чего-нибудь другого? Вроде печенки, что ли.
– Печенки в рот не берешь. Ешь бифштекс.
– Гм… Пожалуй, это верно. Только, видишь ли, я, говоря про печенку, подразумевал что-нибудь вроде макарон или спаржи…
– Ешь бифштекс, – искусственно спокойно отвечала жена. – Ты любишь бифштексы.
Он покосился на нее. Увидел пухлые, вялые щеки, упорно сжатый рот и опущенные глаза. Сердится.
Он вздохнул.
– Да? Люблю? Ну ладно. Если люблю, буду есть. Только отчего он такой голый и черный… как негр?
И сейчас же испуганно прибавил:
– Впрочем, он отличный, отличный.
Пилил упругое мясо тупым железным ножом, смотрел на противный розовый сок, сочившийся из надреза, и, преодолевая тошноту, вяло думал: «Надо работать. Как странно, как тяжело спит душа…»
– Советую тебе после завтрака сразу сесть к роялю и сочинять, – сказала Маня. – Не забудь, что в три часа придет француз из газеты, а в четыре ученик.
Алексей Иваныч молчал.
Жена заговорила снова, и голос ее задрожал:
– Что… есть надежда, что ты к четвергу закончишь ноктюрн?
Алексей Иваныч покраснел:
– Ну разумеется. Времени бездна. Главное, ты не волнуйся… И отчего ты ничего не ешь?
– Не хочется. Я с удовольствием выпью кофе.
Она встала и подошла к буфету, повернувшись к мужу спиной. Потрогала на буфете чашки и снова села. Ясно было, что просто спрятала на минутку свое лицо. Что это значит? А ведь, пожалуй, у них просто денег нет… «Я насильно ем бифштекс, от которого меня тошнит, а она сидит голодная, – подумал он. – А если заговорю, начнет раздражаться. Да и нет сил заговорить…»
– Не забудь побриться, – говорила жена. – И переоденься, нельзя же так. А сейчас иди и сочиняй. Помни, что нотный издатель велел к четвергу, иначе ноты к концерту не поспевают и тебе же будет хуже. В четверг, как пойдешь к нему, заодно можешь там сняться рядом в фотографии. Ты не сердись на меня. Надо же, чтобы кто-нибудь обо всем этом подумал.
Он поднял на нее глаза. Какая она усталая. Губы совсем голубые… Надо сказать ей что-нибудь ласковое.
– Манюся! Какая у тебя славная кофточка! Очень тебе идет.
Она посмотрела на него даже с каким-то ужасом:
– Эта кофточка? Да я ее ношу второй год. Бумазейная рвань. Что, ты ее сейчас только заметил, что ли?
– Нет… нет… я только хотел в том смысле, что ты вообще умеешь одеваться. Ну, я иду заниматься.
В салончике было холодновато, и черный лак пианино блестел официально, жестоко и требовательно. Исчирканные листы нотной бумаги оползнями свисли с крышки.
Алексей Иваныч запер поплотнее дверь, шумно двинул табуретом, взял несколько совершенно к делу не относящихся аккордов и затих.
Вот здесь, в этих пачках, его ноктюрн, который он должен закончить. Да. Закончить. Но сегодня он не сможет дотронуться до него. Не может проиграть, услышать, войти в этот мир, который он, как Бог, создал из ничего. Там пение звезд, и взлеты серебряных крыльев, и холодное небо, льющее из золотой чаши лунное вино, мертвое и страстное.
Человек в этот мир входит трепетно, весь отрешенный, белый-белый, идет медленно, не помня, не зная, ощупью… И вот есть момент, когда звук, созвучие, созвучное не только звукам, составляющим его, но и тому неизъяснимому мелодийному колебанию, которое «ноет», поет в самой неосознанной глубине, возьмет и поведет, и уведет… Господи.
– Я тебе не помешала?
Жена приоткрыла дверь.
– Я только хотела сказать, что все ноты с полу я положила сюда, наверх. Может быть, ты их как раз и ищешь…
Ушла.
Сердце заколотилось с перебоями…
Да. Нужно работать.
Если бы здесь был диванчик, можно было бы прилечь на минутку… Хотя она может войти… Бедная Маня!
Маня убрала посуду, вымыла в кухне пол. Посмотрела в ужасе на свои руки.
– Ручки, ручки, гордость моя…
И тут же строго одернула себя:
– Все равно. Ничего не жаль. За все слава Богу, лишь бы он, Алеша…
Теперь, значит, нужно привести себя в порядок. Придет француз из газеты. Нужно, чтобы беседа появилась до концерта в Лондоне, чтобы легче было получить аванс. Да. Аванс. Купить фрачную рубашку, лакированные башмаки… Что бы он делал без меня? Совсем несмышленыш.
Вспомнила, как он похвалил ее грязную кофту, засмеялась, и тихое умиленное тепло обволокло душу.
«Маленький ты мой, глупый ты мой! Грубо я с тобой сегодня говорила… Да что поделаешь. Измучилась я. От бедности все это, маленький мой. И пусть измучилась, пусть облик человеческий потеряла, лишь бы тебе помочь хоть как-нибудь».
Захотелось взглянуть на него.
Он сидел у пианино, низко опустив голову, закрыв глаза.
– Алеша! Испугала? Чего ты так все горбишься? Ты и на эстраде всегда согнешься, как карлик. Пластрон этот самый крахмальный колесом выпрет и коленкор наружу тянет. Сидишь, как горбун. Смотри, Рахманинов как красиво сидит, а он длинный, ему труднее…
Алексей Иваныч молча смотрел на нее непонимающими тусклыми глазами.
– Чего ты? Устал? А знаешь, по-моему, этот твой ноктюрн будет прямо замечательный. Я бы только на твоем месте играла его гораздо громче. Публика любит, когда громко играют. Могущественно. И еще ужасно любит публика колокола. Громко на басах и колокола. Все всегда потом в антракте хвалят. И еще хорошо, если очень тоненькое пиано… Понимаешь, они все считают, что это очень трудно и что именно это надо хвалить. Уж ты мне верь. Я в антрактах все разговоры подслушиваю. Что тебе стоит – пусти им колокола.
Алексей Иваныч все так же бессмысленно молчал.
В передней затрещал звонок.
– Боже мой! – вскочила Маня. – Француз пришел! Беги скорее в спальню… Башмаки… Пиджак…
Вошел приятный молодой француз. С восторгом и благоговением окинул взором два рваные кресла и пианино. Остановил взор на портрете Чайковского и, понизив голос, спросил:
– Достоевски?
Маня торжественно предложила сесть. Села сама, заложив юбку складкой на масляном пятне и прикрыв шарфиком дыру на блузке.
– Муж сейчас выйдет.
– О! О! Маэстро, наверное, работает, – застонал француз.
Но маэстро сейчас же выскочил.
«Так и не переоделся», – вздохнула Маня.
Опустила глаза и замерла: на одной ноге у маэстро был желтый башмак, на другой лопнувший лакированный.
Алексей Иванович сел и от смущения очень непринужденно заболтал лакированной ногой.
– Мосье много работает? – деловито нахмурив бровь, спрашивал француз.
Алексей Иванович добродушно усмехнулся и стал чесать за ухом, готовясь к откровенному признанию.
Но Маня не дала ему времени.
– Очень, очень много, – отвечала она. – У нас сейчас масса работы… Заказы из Вены, из Нью-Йорка.
Алексей Иванович смотрел на нее в ужасе. Француз безмятежно записывал в книжечку.
– Масса работы, – делая вид, что не замечает взгляда мужа, продолжала Маня. – Да, да… и задумана большая опера… К ней приступят летом, на юге… Тема? Современная. Только это пока секрет. Переговоры ведутся с Америкой…
– Маня! Что же это за брехня? – робко по-русски прошептал Алексей Иванович. – Нельзя же так…
– Убедительно прошу не мешать. Все так делают…
– Чьим учеником считает себя маэстро? – спрашивал француз.
– Ничьим! – гордо отрезала Маня. – Он самобытный. Он говорит: у меня учатся, а мне учиться не у кого и нечему.
Алексей Иванович набрал воздуху, втянул губы и со стоном выдул:
– У-ф-ф-ф!
– Любимый автор мосье?
– Э-э-э… Дебюсси! – отчаянно неслась Маня… – Дебюсси. Молчи и не перебивай. Для французов нужно, чтобы ты любил французскую музыку. Молчи.
– А из русских авторов?
– Мусоргский. Молчи. Французы больше всего уважают Мусоргского.
Сразу после француза пришел ученик. Алексей Иванович уныло смотрел на худощекого мальчишку, унылого, уши лопухом, и думал решительно и горько:
«Я подлец. Если бы я был честным человеком, я сегодня же пошел бы к его маменьке и сказал бы: маменька, ваш сын безнадежно бездарен, поэтому считайте, что я три раза в неделю залезаю в ваш карман и краду у вас по тридцать франков. Три раза… Раз, два, три, раз, два, три…»
– Что это вы играете? – очнулся он. – Что за брехня! На сколько делится?
– На четыре четверти, – уныло протянул ученик.