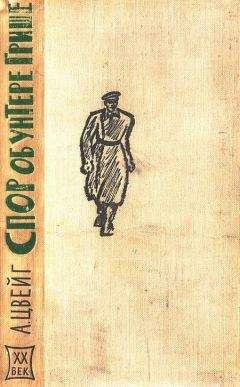– На четыре четверти, – уныло протянул ученик.
– Так зачем же вы считаете на три?
– Это вы считаете, – робко ответил тот.
– Я? Форменное идиотство… Кстати, вы разве любите музыку?
– Мама любит.
– Может быть, лучше бы она сама и играла…
Ушастый мальчик ушел. Хорошо бы прилечь… Но Мане будет обидно. Ей всегда кажется, что он валяется в те часы, когда мог бы «творить». А никогда не поймет, что именно в те часы, когда творить не может…
– Маня, кажется, у меня этот урок сорвется. Мальчишка бездарен.
– Да тебе-то что? Хочет учиться, так и пусть.
– Нет, я так не могу. Это мне тяжело.
Она опустила голову, и он видел, как задрожало ее лицо.
– Маня! – крикнул он. – Только не плачь! Голубчик! Я на все согласен, только не плачь.
Тогда она, видя, что все равно слез уже не спрячешь, громко охнув, повалилась грудью на стол и зарыдала.
– Тяжело! Ему тяжело!.. Мне очень легко! Я молчу… я все отдала… Разве я женщина? Разве я человек? Отойди от меня! Не смей до меня дотрагиваться… Не за себя мучаюсь – за теб-бя-а! Ведь брошу тебя – на чердаке сдохнешь! Уй-ди-и!
– Милая… Милая!.. – мучился он. Топтался на месте, не знал, что делать… – Милая… Ты успокойся. Ну, хорошо, я уйду, если тебе мое присутствие… и немножко пройдусь…
Она оттолкнула его обеими руками, но когда он был уже на лестнице, она выбежала и, свесившись через перила, прокричала:
– Надень кашне! Ненавижу тебя… Не попади под трамвай.
Был вечер ясный и радостный, не конец дня, а начало чудесной ночи.
Алексей Иванович закинул голову и остановился.
– Умрешь на чердаке… – прошептал он, подумал и улыбнулся. – Собственно говоря, так ли уж это плохо?
Он повернул лицо прямо к закатному пламенно-золотому сумраку, вдруг запевшему, загудевшему для тайного тайных души его таким несказанно блаженным созвучием, что слезы восторга выступили на глазах его.
– Господи, Господи! Бедная ты моя, милая… Так ли уж это плохо?
Прошли по земле страшные годы. Пронесли события огромного мирового значения.
Почернела, осклизла земля от крови и дыма.
Но, если оторваться от нее, от земли нашей, подняться до Марса, до Урана, до планетоидов, еще дальше, еще выше в Безымянное – не покажется ли оттуда весь ужас, весь хаос отчаяния наших войн и революций просто чем-то вроде сумбурной неразберихи неудачного хозяйственного предприятия…
В ту весну, о которой я говорю, когда порозовели рассветные облака и сладострастно всей грудью застонали голуби под крышей над окошком шестого этажа, произошло также событие огромного мирового значения, но в мире, нами не знаемом, закрытом от нас столь же чудесно, как непостижимые миры запланетного пространства.
Вот в этом самом окошке шестого этажа произошли катаклизмы, столкнулись светила, дрогнула вселенная, раскололся хаос, родилось солнце. Катя Петрова, ученица консерватории по классу пения, сказала пианисту Евгению Шеддеру слова библейской Руфи:
– Пойду за тобой, и твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом.
Но пианист Шеддер, кажется, этих слов не расслышал…
Они познакомились на концерте. Вместе вышли, и он проводил ее домой, на другой день зашел сам, без зова. С этого и началось.
Катя удивлялась, пугалась – почему он приходит. Не чувствовалось, что она ему понравилась. Он на нее не смотрел и ни о чем не спрашивал. Он все время говорил сам, и вдобавок о своей любви к другой женщине, к какой-то певице Лавизе Чен, которой он аккомпанировал на концертах. О себе и о Лавизе Чен. О Кате Петровой, испуганной и покорной своей слушательнице, он не говорил ни слова.
Он рассказывал о таланте Лавизы Чен, еще больше о ее очаровании, умении нравиться, покорять и властвовать, говорил загадочно и поэтично.
– Она дала мне только одно утро и один день и только один вечер и одну ночь – но это путь солнца.
Катя Петрова пудрила свое узенькое личико и прикалывала бантик то к плечу, то к поясу (один только бантик и был), но он ничего этого не видел. Он садился у окна, в профиль. Его резкий горбатый нос четко вырисовывался на розовом небе белой ночи. Катя ежилась на своей оттоманке и слушала о чудесной любви к чудесной другой женщине, которая умела выбирать духи, цветы, умела одеваться и внушать чудесную любовь.
У Кати был милый голосок, но ни разу не посмела она спеть при Шеддере.
– Когда поет Лавиза Чен, вы слышите не голос, а могучий зов из вечности в вечность через путь восторга и страсти.
Ну где ж после этого петь.
Она узнала обо всех платьях, обо всех ариях и обо всех поклонниках Лавизы. Она узнала о ее привычках, манерах, любимых словах и улыбках. А потом, ставши женою Шеддера, о поцелуях Лавизы, о ее родинке на левой груди, о ее любовных капризах и ласках.
Говоря о Лавизе, Шеддер иногда вставал с места, садился около Кати на оттоманку и задумчиво гладил ее по руке. И это легкое прикосновение точно перебрасывало легкий хрустальный мостик, по которому, дрожа и холодея, переходила она в неизъяснимый мир чудесной любви, входила в него этим своим трепетом, и биением сердца, и всей, доселе неизведанной, сладкой мукой любовного томления.
И когда он приходил усталый (время было тяжелое, и каждый шаг его был сложен и труден) и молчаливый, она сама говорила:
– Расскажите мне о ней, о Лавизе Чен…
Случился такой вечер, что Шеддер не мог прийти. Улицы были почему-то оцеплены, кто-то на кого-то восстал, не то меньшевики, не то эсеры – не все ли равно? – главное, что его на Катину улицу не пропустили.
На следующий вечер, очевидно, эсеры успокоились, и Шеддер пришел.
– Это очень неудобно, – сказал он. – Меня могут опять не пропустить. Может быть, нам лучше жить вместе.
Она хотела что-то ответить, покраснела, задохнулась и, прижавшись к его плечу, заплакала.
Оба они молчали. Он от удивления и некоторой растерянности, она – от того, что слушала, как душа ее говорит слова библейской Руфи: «Пойду за тобой, и твой Бог да будет моим Богом, и твой народ будет моим народом».
А на другой день они пошли в комиссариат, где под портретом Маркса и незнакомого еврея – кажется, Троцкого – худосочная девица в истрепанном кружевном платье, очевидно когда-то бывшем бальным, обвенчала их, пришлепнув печатью паспорта.
А вечером Евгений Шеддер перевез в комнату Кати Петровой свое имущество: рваный чемоданчик, ноты и одиннадцать портретов певицы Лавизы Чен, все в рамках.
У певицы было довольно тяжелое лицо с резко выдвинутым подбородком и толстые плечи.
– Ни один из этих портретов не передает ее. Ее передать можно только гениальной музыкой и разве еще… виртуозной лаской.
Но его ласки не были виртуозны. Кате иногда казалось, что торопливыми и точно рассеянными поцелуями он старается поскорее отделаться от чего-то ненужного и лишнего. И никогда не говорил он ей ласковых слов и, если чувствовал себя утомленно-разнеженным, отходил к своему любимому месту у окна и с большим умилением говорил о самом себе: о своем таланте, который людьми не оценен, о своем уме, о своем отце, замечательном и гордом аптекаре, о женщинах, любивших его нечеловеческой любовью, и жестокой судьбе, не давшей ему того, на что он имел право.
И потом снова о Лавизе Чен…
Когда он засыпал, Катя садилась на его место у окна, слушала шорох просыпающихся голубей и сладострастные их стоны, смотрела на розовеющие облака ночи и думала о мутной воде своего счастья.
Мутная вода. Такой воды кони не пьют…
Пьют кроткие овцы да вьючные животные.
Жизнь там, внизу, на земле, была тяжелая, хлопотливая и голодная.
Шеддер получил приглашение в Одессу, играть в оркестре.
Уложили бедное свое тряпье и одиннадцать портретов Лавизы Чен и поехали.
Там, в Одессе, на каком-то концерте Катя в первый раз услышала игру Шеддера. Он играл сухо, твердо, сердито. Словно бранился пальцами.
– Хорошая техника, – сказал кто-то.
Вечером Шеддер долго хвалил перед Катей свое исполнение. В Одессе вообще он стал реже вспоминать о Лавизе Чен и больше говорил о себе. И после каждого такого разговора относился к Кате презрительнее и холоднее.
С первой эвакуацией они попали в Константинополь и оттуда в Берлин.
Шеддер службы не нашел. Жил случайными аккомпанементами. Катя, знавшая кое-как немецкий язык, поступила продавщицей в книжный магазин. Там неожиданно встретилась с бывшей подругой по консерватории.
– Почему же ты бросила пение? – удивилась та. – У тебя прелестный голос. Могла бы устроиться здесь в каком-нибудь хоре.
Катя сама не понимала почему.
– Кажется, я потеряла голос, – растерянно ответила она.
Но, вернувшись домой, вспомнила о разговоре и, подойдя к пианино, на котором Шеддер разыгрывал свои сухие сердитые упражнения, взяла несколько тихих аккордов и, подбирая по слуху, запела когда-то любимый романс: «Мне грустно потому, что я тебя люблю».