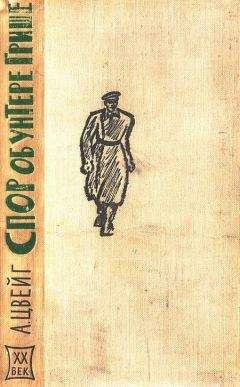Марья Николаевна опустилась на колени, перекрестилась, крепко прижимая пальцы ко лбу, до боли крепко и долго к груди и плечам.
– Спаси и помилуй!
И сейчас же, устыдившись перед Богом своей суетности, пояснила опять, как древний Израиль, просто и человечно:
– Ну что же мне делать, если в этом мое все?
Телеграмма путаными французскими словами извещала о том, что отказаться от контракта impossible[11], о том, что тенор спешно уезжает, хотя desobe[12], и вдобавок toujors, и напишет обо всем подробно.
Марья Николаевна долго читала слова глазами, потом стала понимать, читать душой. Самое страшное слово, которое, как ключ, повернулось и закрыло дверь наглухо, стояло наверху телеграммы, перед цифрами слов и часов. Это было – Hambourg. Название города, откуда послана телеграмма и откуда отплывают корабли.
Кончено.
Она тихо поднялась, огляделась. И вдруг увидела на ковре, около стола, свою перчатку. И потому ли, что она была такая маленькая, бедная, или потому, что сохраняла форму ее руки, и от этого как бы близкая ей телесно, но вид этой перчатки такой невыносимой болью рассказал ей ее горе, что она кинулась к кровати, охватила руками идиотский резной столбик, по-русски, по-бабьи, как бабы охватывают березку и, качаясь, причитают, так и она, Марья Николаевна, качалась.
– Ой, больно! Ой, больно мне, больно!
И потом снова сидела на подоконнике, и недоуменно и обстоятельно, словно решая задачу, обдумывала.
– Значит, так. Как же я буду умирать? Что я должна сделать?
О том, что именно произошло, она думать не могла. Казалось, словно трамвай пролетел через ее голову, со звоном, гулом и грохотом. Осталась пустота, тишина и необходимость выяснить, что теперь делать.
Внизу, в глухом колодце двора что-то звякнуло, закопошилось. И вдруг резкий, скрипучий, как сухое дерево, голос запел:
Das schnste Gluck, das ich auf Erden hab,
Das ist ein Rasenbank auf meiner Eltern Grab.
«Лучшее счастье мое на земле – это дерновая скамья на могиле родителей».
Дребезжащие струны фальшивой арфы сопровождали скрипучую горечь слов.
Марья Николаевна нагнулась.
Там, внизу, словно раздавленный гад, охватив арфу корявыми лапами, шевелилась длинноносая горбунья. Она ползала по ржавым струнам, и горб ее кричал деревянным нечеловеческим голосом о предельной земной скорби.
Марья Николаевна закрыла глаза. Одну минуту замученной душе ее показалось, что заглянула она в настоящий колодезь и увидела в воде его свое отражение. И закричала, содрогнувшись:
– Не хочу!
Вскочила, осматривала свои руки, ноги, как чужие. Ощупывала свое гибкое, легкое тело.
– Ужас какой! Не хочу! Не хочу!
Бросилась одеваться, хватала вещи. Скорее уйти, уехать, разорвать проклятый круг. Она здорова. Она талантлива, она может жить. Все-таки может.
Раскрыла сумку, достала деньги, не считая, не жалея, завязала в платок, бросила в окно тому уродливому, хрипящему ужасу.
Скорее! Скорее прочь!
На вокзале ждал ее поезд, медленный, товарно-пассажирский. С дощатыми платформами, нагруженными живыми телятами для какой-то далекой бойни. Она быстро влезла в пустой грязный вагон, забилась в угол и закрыла глаза.
– Я, в сущности, очень, очень счастливая.
И долго тащил тихий, тяжелый поезд жалко и покорно мычащих телят и бледный полутрупик Марьи Николаевны…
– Наконец-то!
Горбунья вошла в пивную, и Франц радостно поднялся ей навстречу.
– Чего же так долго?
Горбунья смотрит с удовольствием на здоровенного Франца, но отвечает гордо:
– Нужно было спрятать деньги. Я сегодня очень много заработала.
Франц взял ее за руку.
– Больше не будешь тянуть со свадьбой?
Горбунья гордо подняла острый нос и молчала, как длинноклювая священная птица.
– Ты виделась со слесарем? – задыхаясь, спросил Франц и схватил ее за руку.
Горбунья пожевала губами. Он ревновал, и это забавляло ее.
– Я все отлично понимаю, – с горечью сказал Франц и выпустил руку.
– Ну, нечего! – прикрикнула горбунья. – Закажи мне пива.
Как женщина опытная, она понимала, что помучить возлюбленного следует, но слишком накручивать пружинку не годится.
– Значит, ты все-таки любишь меня?
Нос горбуньи поехал вниз. Она усмехнулась.
– Doch![13]
Вчера был удивительный день. Вчера я два раза встретила счастье.
И если бы оба раза счастье не увело мою душу, я, может быть, всю свою жизнь улыбалась бы от радости.
Бывают, вы знаете, странные человеческие души. Они «странные» от слова «странствовать». Они сродни душам индусских йогов. Но йоги напряжением воли могут уйти душой в зверя, в бабочку, в стебель цветка. А наши простые «странные» души уходят сами, без воли, без оккультной медитации. И никогда не знаете, что может увести ее, и почему, и зачем, и когда она вернется.
Заметишь где-нибудь в метро скромного старичка в пестром галстучке и вдруг подумаешь: «А какой у него голос, когда он говорит?»
И вот начало положено.
Как он покупал этот галстучек? Верно, не сразу решился… Подумал – не пестро ли… Он женат. Кольцо… Он дома толковал об убийстве ювелира – у него в кармане газета. Старичок не сделал карьеру. Выражение лица у него привычно унылое. Складки скорби лежат глубоко и покорно – давно легли. Он едет домой – иначе бы читал свою газету, – но он уже успел ее прочесть. Дома ждет его суп из овощей и строгая старуха.
Мутный суп, мутные глаза. Может быть, у них есть кот, или чижик, или сын где-нибудь в Мондоре, сын, жену которого они ненавидят. Если кот или чижик, тогда еще не все пропало… Но если…
– От Марселя уже целый месяц нет писем.
– Это ее влияние.
– Она его разорит и, конечно, потом бросит. Старуха дрожащей рукой в буграх и веснушках наливает себе кисленького винца.
– Если бы я ее убила, суд бы меня оправдал.
На буфете гипсовые Амур и Психея. Рядом – пыльные тряпочные цветы.
Старик развязывает вот этот пестренький галстучек и отстегивает воротник.
На шее у него под острым кадыком зеленое пятно от медной запонки.
Отдай мне мою душу, старик! Не хочу идти за тобою!
Сегодня праздник. Я два раза встретила счастье.
Утром в Булонском лесу. Весеннее солнце припекает. Какое-то сумасшедшее дерево распушилось целым букетом именинно-розовых цветов.
По дорожкам, вскользь оглядывая друг друга, гуляют нарядные дамы и, в одних пиджаках, щеголяя презрением к простуде, красуются кавалеры. Элегантные амазонки в рейтузах, подобранных в тон лошадиной масти, гарцуют вдоль лужаек.
К длинной линии ожидающих своих господ автомобилей подкатывает темно-синяя «Испано-Сюиза». Шофер спрыгивает, открывает дверцу и выпускает пожилую парочку. А вслед за парочкой (вот тут-то и началось!) кубарем выкатываются три мохнатых собаки.
Выкатились и обезумели. Такой сумасшедшей радости бытия, такого раздирающего душу восторга, такого захлестывающего, заливающего все существо, через голову, счастья – я никогда не видала.
Они бросались с разбега в траву, купались в ней, ныряли, задыхались, тявкали коротким лисичьим, бессмысленным лаем, вдруг пускались бежать распластанным галопом, прядая, как хищный зверь: падали, катались, они разрывались от счастья и не находили в слабых своих возможностях – как выразить, как излить, как, наконец, освободиться от этой силы, слишком могучей, почти смертельной для слабой земной твари.
И снова тявкали особым, бессмысленным звериным лаем. Если перевести его на человеческую речь, то тоже не много бы вышло. Вышло бы: «О!»
«О, жизнь! О, лес! О, солнца луч!
О, сладкий дух березы!»
Словом, «О!» и кончено! И поэт большего высказать, как видите, не смог.
Душа пошла за милыми зверями.
Недолог их путь. Еще лет пятнадцать, а может быть, и меньше.
А там старость. Задние ноги начнут отставать, тянуться. Морда станет серьезная и унылая, точно познал пес суету сует и одумал тщету земного. Вздохнет, ляжет. В каждом движении видно сознание своей слабости, ненужности, уродства.
Долгая дрема. И сны. Во сне отрывистый лай, и быстро шевелится передняя лапа. Ух, как она во сне шибко бежит! Не снится ли ему то утро, утро счастья в Булонском лесу?
Воспоминаний нет в блаженной звериной старости. Дрема, и сны, и сновидения.
Милые звери! Прощайте!
Около моего «quartier»[14] – ярмарка.
Русские горы, качели, карусели. Одна карусель совсем маленькая, для маленьких детей. Сиденья на ней все в виде колясочек и тележек, запряженных зайцами, рыбами, петухами.
Перед этой каруселью долго стоял совсем маленький мальчик, лет двух-трех.