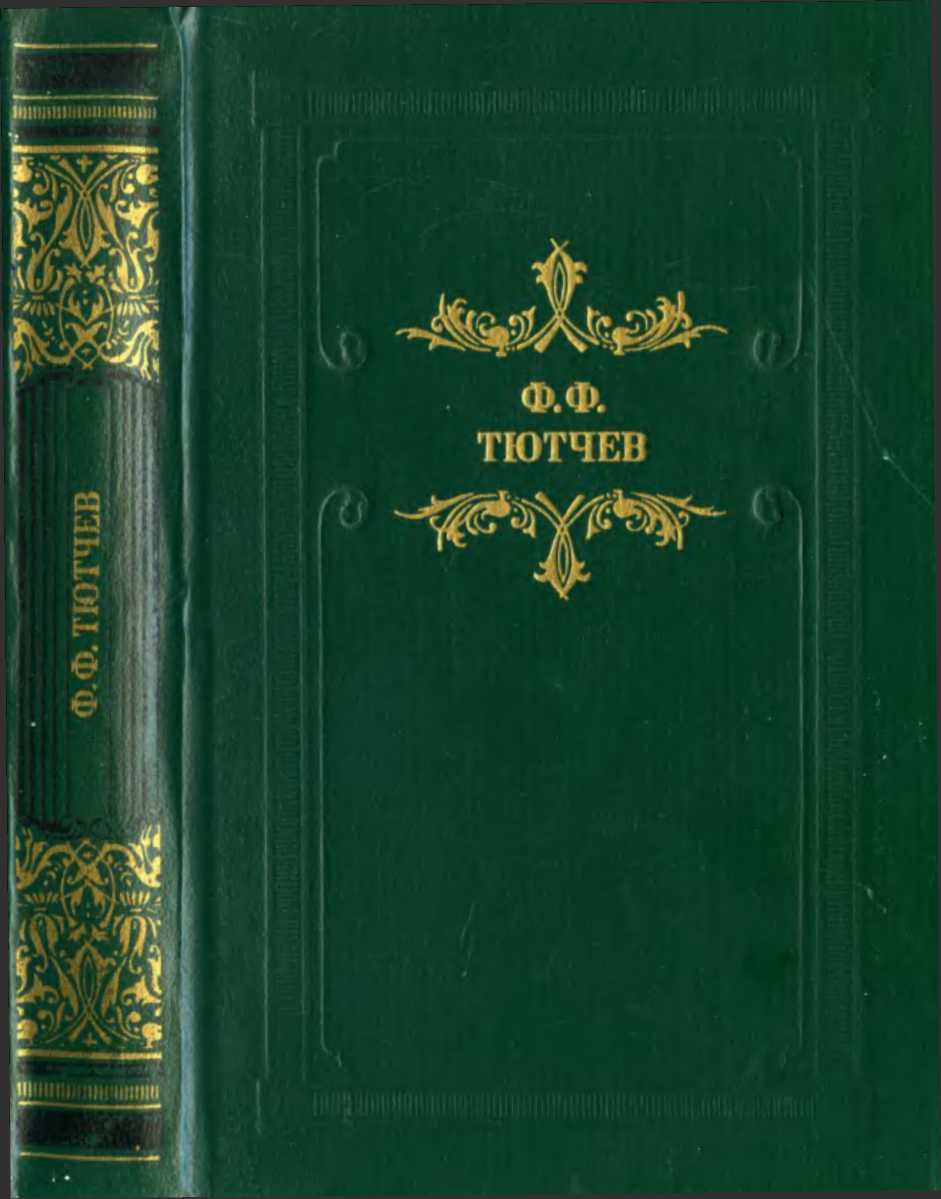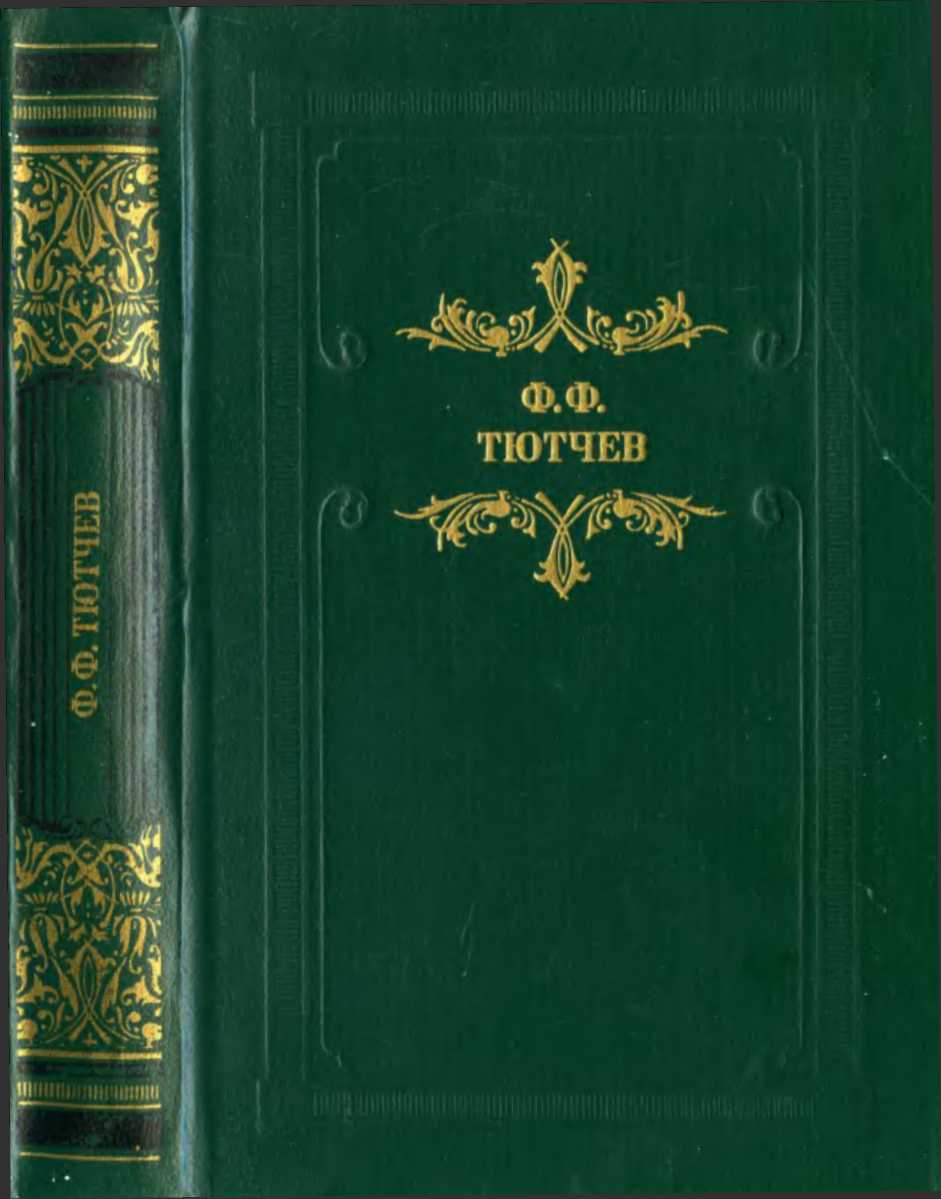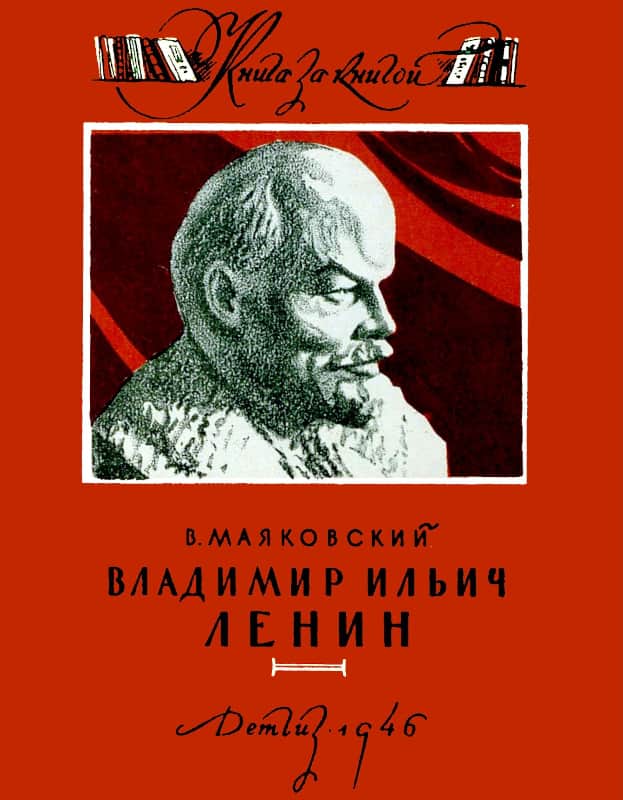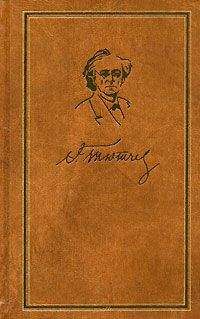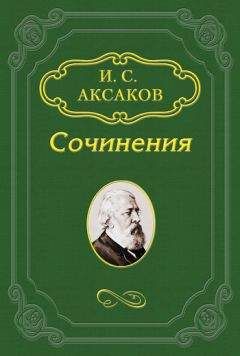Алексея Сергеевича представился труп Даши, уже начинающий слегка разлагаться под влиянием воздуха и теплоты. Лицо ее сильно пожелтело, щеки и глаза ввалились, губы почернели, растрепанные волосы, обильно смоченные запекшеюся кровью, беспорядочными космами рассыпались по песку дороги и, казалось, прилипли к нему; сбоку головы чернелся зияющий пролом.
Ястребов подошел к трупу и уставился в него бессмысленным, смутным взглядом. Казалось, он не узнавал и не понимал, кто лежит перед ним; он несколько минут молча, с выражением тупого внимания разглядывал столь знакомые черты... Вдруг мускулы на лице его дрогнули, словно трепет пробежал по нем, глаза оживились, и в них мелькнуло какое-то странное выражение, он поднял голову, дико, страшно оглядел лица, устремленные на него с выражением нетерпеливого ожидания и соболезнования, и с глухим стоном тяжело опустился на колена, припав к трупу, словно силясь заслонить его от всей этой праздно-любопытной толпы.
В ответ на этот отчаянно-болезненный, надрывающий душу стон из груди присутствующих невольно вырвался не то стон, не то крик; несколько солдат бросились к штабс-капитану и подхватили его под руки,— он был без памяти, лицо его было сине, как у мертвеца, глаза закатились, сквозь судорожно сжатые зубы со свистом вырывалось хриплое дыхание.
Целый месяц Ястребов был опасно болен, и Степан не отходил от него, хотя и сам он почти обессилел от невыносимого душевного страдания.
Наконец Алексей Сергеевич встал с постели, но это был уже не прежний Ястребов, даже не тот, которого мы видели недавно возвращающимся из города, — это бы старик, почти совсем седой, сгорбившийся, с глубоко провалившимися глазами, с худым, желтым лицом, с застывшим выражением безысходной, тупой тоски.
Первым делом, как только силы позволили ему встать, он, вопреки настоянию доктора, еще совершенно слабый, побрел пошатывающейся походкой на кладбище. Даша была похоронена около самой церкви. Простой, кое-как сколоченный крестик, временно поставленный на ее могилу, уже успел наклониться на один бок. Алексей Сергеевич поправил его и тяжело опустился подле на могилу. Он сидел, склонив голову, глубоко задумавшись. Кругом его царила невозмутимая тишина, только какая-то птичка весело чиликала и щебетала, беззаботно перепархивая с одного почерневшего креста на другой. Алексей Сергеевич сидел так тихо и неподвижно, что она смело приближалась к нему; наконец он ее заметил: красногрудая, с хохолком на голове; а она стала до такой степени смела, что даже взлетела на вершину Дашиного креста, около самой головы Ястребова, чиликнула, потрясла хвостиком, повертела головкой и, еще раз прощебетав что-то, проворно нырнула в глубокую синеву безоблачного неба. Наступила ночь. Алексей Сергеевич по-прежнему сидел на одном месте, глаза его были сухи, но на сердце было так невыносимо тяжело, что по временам ему казалось, вот-вот оно разорвется в груди. С этого дня он почти все время проводил на могиле Даши, приходя домой на час, на два и затем снова возвращаясь. По его приказанию вокруг могилы поставили загородку и усыпали внутри мелким песком. Из города привезли цветов, и Ястребов собственноручно рассадил их так, что они кругом закрыли могилу. Недели через две из Москвы, по заказу Алексея Сергеевича, прислан был небольшой памятник, состоявший из гранитной скалы и белого мраморного креста; ни на кресте, ни на скале не было никакой надписи; только в середине креста был вделан небольшой образок Марии Магдалины. Имени умершей не было вырезано. Когда кто-то спросил об этом, Ястребов ответил:
— Зачем имя на кресте для тех, кто ее не знал? А я его и без напоминаний до конца жизни не забуду!
XVIII
Был конец июля. Эскадроны давно уж снялись с квартир и стояли лагерем в другой губернии. Алексею Сергеевичу дали отпуск, никто его не тревожил, и он жил все в том же домике старика священника со своим Степаном. Уход за могилой, хлопоты по установке памятника были единственными его развлечениями, они сокращали ему день, вливали хоть какой-нибудь интерес в его одинокую, однообразную жизнь.
Степан молча наблюдал за своим барином, и словно черная туча налегла на него и придавила его. Тоска невыносимая, безысходная обуяла Степаном; он не знал, куда от нее уйти, сразу поняв, что вся жизнь его, как и жизнь Алексея Сергеевича, загублена, разбита в прах. Он не ожидал такого страшного потрясения и только теперь убедился, как дорога, как горячо любима была Дарья Семеновна Ястребовым; он видел, что горе Алексея Сергеевича таково, что его не избыть и не изжить, сколько бы он ни жил.
— Ах, бог ты мой милостивый! — метался он в припадке полного отчаяния,— Для чего это я сделал, и как это случилось? Думал, лучше будет, ан вон что вышло! И зачем это, для чего?!
Ужас, охвативший его впервые в ту минуту, когда он почувствовал, как перестала трепетать и биться его жертва, все усиливался и усиливался и принял невероятные размеры. Он дрожал как в лихорадке и то и дело пугливо оглядывался, каждый малейший шорох, неожиданно обращенное к нему слово — заставляли его обливаться холодным потом. Ни на минуту не мог он забыться: происшествие роковой ночи с изумительной ясностью, до мельчайших подробностей, врезалось в его память и, если можно так выразиться, отлилось в неизменную, незыблемую форму. Казалось, что ощущения, пережитые им в ту ночь, так и застыли в нем, подобно тому как расплавленный металл застывает в форме.
Он до сих пор еще чувствовал, как под его горячими пальцами вдруг быстро стало холодеть горло Даши, как холод этот вдруг проник во все его члены и, казалось, мгновенно оледенил его кровь; он с содроганием разжал свои, судорожно впившиеся в шею Даши, пальцы; труп медленно запрокинулся и с легким стуком упал на жесткий грунт шоссе; руки его широко раскинулись... Не помня себя от ужаса, Степан наклонился над Дашей и провел по ее лицу своей ладонью; лицо было холодно. В эту минуту он почувствовал что-то теплое, змейками сбегавшее к нему под рукав, он поднял руку — она была вся красная; густые капли крови медленно капали с пальцев... Страшный, панический ужас вдруг охватил его всего, он дико вскрикнул и, как безумный, ничего не видя, не замечая, помчался обратно в Малиновое. Ему чудилось, что кто-то догоняет его и кличет по имени, и он бежал, бежал, затыкая уши, зажмуривая глаза, бежал до тех пор, пока, в полном изнеможении, как мертвый, не повалился, наконец, на сено в своем сарае, подле смирно жевавшего Сокола. С этого мгновенья его уж ни на минуту не покидал этот невыразимо глубокий, мистический